Так говорил мой любимый Халиль Джебран

… Я не променяю печали своего сердца на радость людей и не согласен, чтобы слезы, которые извлекает скорбь из моих недр, превратились в смех. Я мечтаю, чтобы моя жизнь оставалась слезой и улыбкой: слеза очищает сердце и научает тайнам и глубинам жизни, улыбка приближает меня к сынам моей земли и служит символом моего прославления Богов; слеза позволяет мне оставаться среди людей с разбитым сердцем, а улыбка знаменует мою радость бытию.
Я желаю умереть любя, а не жить скучая. Я желаю, чтобы в глубинах моей души вечно оставался голод по любви и красоте. Я созерцал и увидел, что люди довольные несчастнее всех и ближе всех к материи; я преклонил ухо и услышал, что вздохи мечтающего влюбленного слаще звуков струн.
Наступает вечер, и цветок сжимает свои лепестки и засыпает, обнявшись со своей любовью, а когда приходит утро, он открывает свои уста, чтобы принять поцелуй солнца. И жизнь цветов – любовь и свидание, слеза и улыбка.
Испаряются воды моря и, поднявшись вверх, собираются и становятся облаком, плывущим над холмами и долинами. А когда оно встретит нежный ветерок, то падает слезами на поля и собирается в ручейки, и возвращается к морю – родине своей. Жизнь облаков – разлука и встреча, слеза и улыбка. Так и душа отделяется от единого Духа, идет в мир материи и проходит, как облако, над горами печалей и долинами радостей; она встречается с дуновением смерти и возвращается туда, где была, к морю любви и красоты – к Богу...
… И отделил Бог Богов от сущности своей душу, и создал в ней красоту.
И даровал он ей тонкость дуновений зари, и аромат полевых цветов, и нежность лунного света.
И протянул он ей кубок радости, сказав: «Никогда не пей из него, если не хочешь забыть прошлое и пренебречь грядущим», и кубок печали, сказав: «Пей из него, и ты постигнешь сущность веселия жизни».
И посеял он в ней любовь, которая разлучается с ней при первом вздохе удовлетворенности, и сладость, уходящую с первым произнесенным словом.
И низвел он к ней с неба знание, чтобы направить к путям истины.
И вложил в глубины ее зрение, видящее невидимое.
И создал он в ней чувствительность, которая растекается вместе с фантазией и странствует вместе с призраками.
И облек он ее в одеяние страсти, сотканное ангелами из дрожания радуги.
Потом вложил в нее мрак смятения – тень света.
И взял Бог огонь из горна гнева и вихрь, дующий из пустыни неведения, и песок с берега моря себялюбия, и прах из-под ног веков – и создал человека.
И дал ему слепую силу, взрывающуюся при безумии и потухающую перед страстями.
Потом вложил в него жизнь – тень смерти.
И улыбнулся Бог Богов, и прослезился, и почувствовал любовь, которой нет конца и предела, – и соединил человека с его душой.
… Красота – религия мудрецов.
О вы, блуждающие по пути разветвившихся религий и скитающиеся в ущелиях противоречивых учений, вы, счетшие свободу отрицания вернее оков подчинения, а луга сомнения надежнее оплотов подражания, – изберите религией красоту и поклоняйтесь ей как Господу. Она проявляется в совершенстве творений, обнаруживается в выводах разума. Бросьте тех, кто представляет веру забавой и соединяет свою жадность к богатству со страстью к благому исходу, уверуйте в божественность красоты; началом вашего восхищения будет жизнь и источником вашей любви – счастье. Затем обратитесь к ней: она приблизит ваши сердца к трону женщины, зеркалу ваших чувств, и укажет путь вашим душам на ристалище природы, где отечество вашей жизни. О вы, гибнущие среди ночи разноречий и тонущие в пучинах догадок! Ведь в красоте — истина, отрицающая подозрение, отгоняющая сомнение, и блистающий свет, который охранит вас от мрака лжи. Присмотритесь к пробуждению весны и наступлению утра – ведь красота – удел присматривающихся!
Прислушайтесь к пению птиц, и шороху ветвей, и журчанью ручьев, – ведь красота – доля прислушивающихся! Взгляните на кротость ребенка, и нежность юноши, и силу мужа, и мудрость старца, – ведь красота – восхищение вглядывающихся! Воспойте нарцисс глаз, и розу щек, и анемон рта, – ведь красота прославляется воспевающими!
Восхвалите ветвь стана, и ночь волос, и слоновую кость шеи, – ведь красота радуется похваляющим! Посвятите тело, как храм, красоте и посвятите сердце, как жертвенник, любви, – ведь красота воздает поклоняющимся!
Ликуйте вы, которым ниспосланы откровения красоты, и веселитесь, ибо нет страха над вами и не будете вы опечалены.
… Пусть на моем надгробии напишут: «Здесь тот покоится, чье имя было начертано водою». Джон Ките.
Неужели вот так и промчатся эти ночи, неужели взаправду исчезнут они под пятою Времени? Неужели века поглотят нас, не оставив ничего, кроме имени, которое они начертают на своих страницах водою вместо чернил?
Неужели померкнет свет, бесследно исчезнет любовь, иссякнут желания? Неужели смерть разрушит все нами построенное, ветер развеет все нами сказанное и тень скроет все нами содеянное?
Неужели такова жизнь? Разве жизнь – это ушедшее прошлое, чьи следы стерлись, настоящее, что мчится вслед прошлому, и будущее, обретающее смысл, лишь когда оно минует и станет настоящим или прошлым? Разве истают все радости наших сердец и печали наших душ, и мы так и не узнаем, какой они принесут плод?
Неужели и впрямь человек подобен пене морской, что какой-то миг держится на глади вод и исчезает от первого дуновения налетевшего ветра?
Нет, клянусь, подлинная сущность жизни есть жизнь. Жизнь, которая не в материнском лоне началась и не в могиле найдет свой конец. Отпущенные нам годы – лишь краткий миг безначальной и бесконечной жизни. И людской век, со всем, что в нем есть, – сон, сменяющийся пробуждением, которое мы зовем беспощадной смертью. Сон. Но все, что мы видим и творим в этом сне, не преходяще вовеки.
Эфир несет в себе каждую улыбку и вздох, вырвавшийся из наших сердец, и хранит звук каждого поцелуя, рожденного любовью. Ангелы ведут счет каждой слезе, исторгнутой печалью из наших глаз, и доносят до слуха душ, парящих в просторах бесконечности, каждую песнь, что радость слагает из наших чувств.
Там, в ожидающем нас мире, нашим глазам предстанут кипение наших страстей и биение наших сердец. Там мы до конца постигнем всю глубину нашей божественности, которой сейчас, гонимые отчаянием, так гнушаемся.
Наши блуждания, которые сегодня мы зовем слабостью, послужат завтра тем недостающим звеном, без коего цепь жизни человеческой была бы незавершенной.
Труды, за которые сейчас мы не имеем награды, оживут с нами и докажут наше величие.
А пережитые страдания станут венцом нашей славы.
И если бы Ките, этот звонкоголосый соловей, знал, что его песни будут вселять в людские сердца дух любви к красоте, он бы завещал: «Пусть на моем надгробии напишут: здесь тот покоится, чье имя было начертано огнем на небесах».
… Я бежал от толпы и бродил по широкой долине, то выслеживая течение ручейка, то прислушиваясь к щебету птиц. Так я дошел до места, скрытого ветвями от взоров солнца, и сел там, беседуя со своим одиночеством и разговаривая с душой – душой жаждущей, для которой все видимое – только мираж, а все невидимое – утоляющий источник.
Когда мое сознание вырвалось из темницы материи в пространство фантазии, я осмотрелся и вдруг увидел девушку-фею, стоявшую подле меня; одежду и украшения заменяли ей виноградная лоза, скрывавшая часть ее стана, и венок из анемонов, скреплявший ее золотистые волосы… Заметив по моим взглядам, что я смущен и растерян, она произнесла: «Я дочь лесов, не пугайся!»
Сладость ее голоса вернула мне силы, и я сказал: «Разве подобная тебе может жить в пустыне, где царит уныние и обитают дикие звери? Заклинаю тебя жизнью твоей, скажи мне, кто ты и откуда пришла».
Она села на траву и отвечала: «Я символ природы. Я дева, которой поклонялись твои отцы – воздвигали мне жертвенники и храмы в Баальбеке, Афке и Джубейле».
«Эти храмы, – возразил я, – давно разрушились, и кости моих дедов сравнялись с кожей земли. От следов их божеств и религий не осталось ничего, кроме немногих страниц в недрах книг».
Но она прервала меня: «Есть Боги, живущие жизнью своих почитателей и умирающие с их смертью. А другие живут божественной сущностью, вечной, нетленной. Моя божественная сущность почерпнута из красоты, которую ты видишь, куда ни обратишь свой взор. Красота же – это вся природа. С красоты начиналось счастье для пастуха, бродящего среди холмов, селянина, трудящегося на полях, кочевников, скитающихся меж горами и берегом. Красота была для мудреца лестницей к трону неуязвимой истины». Биения моего сердца подсказали языку неведомые дотоле слова, и я воскликнул: «Но ведь красота – сила грозная и ужасная!» На губах ее цветком промелькнула улыбка, а во взоре отразились тайны жизни. „Вы, люди, – ответила она, – боитесь всего, даже самих себя. Вы боитесь неба, хотя оно источник мира, боитесь природы, хотя она ложе успокоения, боитесь Бога Богов и приписываете ему зависть и гнев, а он, если не любовь и милосердие, то ничто“.
Наступила тишина, наполненная нежными мечтами. Потом я спросил ее: „Что же такое красота? Ведь люди по-разному определяют и познают ее и по-разному прославляют и любят!“
И дочь лесов отвечала: „Красота – то, к чему у тебя есть влечение в душе; то, что ты видишь и хотел бы дать, а не взять; при встрече с красотой ты чувствуешь, как тянутся к ней глубины твоей души. Красота – то, что тела считают испытанием, а души – благодеянием, – это союз между печалью и радостью. Красота – то, что ты видишь, хотя оно скрыто, узнаешь, хотя оно и неведомо, и слышишь, хотя оно немо. Это сила, зарождающаяся в святая святых твоего существа и кончающаяся за пределами твоей фантазии...“
И дочь лесов подошла ко мне и положила свою благоуханную руку мне на глаза. Когда она ее отняла, я увидел себя в одиночестве, в той же долине. Я вернулся обратно, а душа моя повторяла слова: „Красота – то, что ты видишь и хотел бы дать, а не взять“.
… В ночной тишине пришла мудрость и стала около моего ложа. Она посмотрела на меня взглядом нежной матери, отерла мои слезы и сказала: „Я услыхала вопли твоей души и пришла ее утешить. Открой мне свое сердце, и я наполню его светом. Проси меня, и я укажу тебе путь истины“.
Я заговорил: „Кто я, о мудрость, и как я пришел в это ужасное место? Что значат эти великие мечты, множество книг и дивные рисунки? Что это за мысли, которые пролетают, как стая голубей? Что это за речь, нанизываемая сознательно, рассыпаемая с наслаждением? Что это за выводы – то печальные, то радостные, обнимающие душу, окружающие сердце? Что это за глаза, смотрящие на меня, созерцающие мои глубины, отворачивающиеся от моих страданий? Что это за голоса, оплакивающие мои дни, воспевающие мою слабость? Что это за юность, которая играет моими стремлениями, издевается над моими привязанностями, забывает дела вчерашнего дня, радуется ничтожеству настоящего, отвращается от медлительности завтрашнего дня? Что это за мир, влекущий меня, не знаю куда, ставящий меня в место унижения? Что это за земля, разверзающая пасть свою для поглощения тел, раскрывающая грудь свою для внедрения жадности? Что это за человек, довольствующийся любовью и счастьем, хотя пред достижением их – пропасть; ищущий поцелуя жизни, а смерть его заушает; покупающий минуту наслаждения за год раскаяния; предающийся дремоте, когда к нему взывают сны; плывущий с потоками глупости к заливу мрака? Что это все, о мудрость?“
И отвечала она: „Ты хочешь, смертный, видеть этот мир оком Бога, а тайны грядущего мира хочешь понять человеческой мыслью. И это предел глупости. Пойди в поле, и ты увидишь, как пчела летает вокруг цветов, а коршун низвергается на добычу. Войди в дом твоего соседа, и ты увидишь, как ребенок восхищен лучами огня, а мать занята своими домашними делами. Будь и ты как пчела, а не проводи дней весны, созерцая действия коршуна. Будь как ребенок и радуйся лучам огня, а свою мать оставь с ее делами. Все, что ты видишь, было и будет ради тебя. Множество книг, дивные рисунки и прекрасные мысли – это призраки дум, пришедших раньше тебя. Речь, которую ты ткешь, – связь между тобой и твоими братьями-людьми. Выводы печальные и радостные – это зерна, брошенные прошлым в поле души, и их пожнет будущее… Юность, играющая твоими склонностями, – она же открывает врата твоего сердца лучам света. Земля, разверзающая свою пасть, – она же освобождает твою душу от рабства тела. Этот мир, мчащийся с тобой, – твое сердце. Сердце твое и есть все то, что ты считаешь миром. Этот человек, которого ты видишь глупым и жалким, – он пришел от Бога, чтобы научиться радости через печаль и познанию от мрака“.
Мудрость положила свою руку на мой пылающий лоб и добавила: „Иди вперед и никогда не останавливайся, потому что впереди совершенство! Иди и не бойся терниев на дороге: они дают вылиться только испорченной крови“.
… В этот день родила меня мать.
В этот день, двадцать пять лет назад, покой передал меня в руки бытия, наполненного воплями, раздором и борьбой.
Вот уже двадцать пять раз я обошел кругом солнце, – я не знаю, сколько раз месяц обошел крутом меня, – и все-таки я еще не постиг тайны света и не познал сокровенностей мрака.
Двадцать пять раз я обошел вместе с землей, луной, солнцем и звездами вокруг всеобщего вышнего закона, и вот душа моя шепчет теперь названия этого закона, как пещеры повторяют эхо морских волн; они существуют вместе с морем, но не знают его сущности; они поют песни отлива и прилива, но не могут его постичь.
Двадцать пять лет назад рука времени начертала меня как слово в книге этого дивного, ужасного мира. И вот я – слово непонятное, смутное по своему значению, иногда указующее на ничто, иногда указующее на многое.
Размышления, мысли и воспоминания устремляются на душу мою в этот день каждый год. Предо мной останавливаются шествия протекших дней и показывают мне призраки отошедших ночей, а потом разгоняют их, как ветер – остатки облаков над горизонтом. И они тают в углах моей комнаты, как тают песни ручейков в далеких пустынных долинах.
В этот день каждый год приходят души, изображенные моей душой, устремляясь ко мне со всех концов мира. Они окружают меня с грустной песней воспоминания, а потом медленно отступают и скрываются за видимым, как стая птиц, опустившихся на покинутое гумно, но не нашедшее зерен. С минуту они трепещут там крыльями, а потом плавно летят в другое место.
В этот день встает передо мною все содержание прошлой жизни, как тусклое зеркало. Я смотрю в него долго, но не вижу ничего, кроме ликов годов – истомленных, как лица мертвецов, и черт надежд, снов и мечтаний – морщинистых, как старческие лики. Я закрываю глаза, а потом смотрю снова в это зеркало. Я не вижу ничего, кроме своего лица. Я всматриваюсь в него, но вижу в нем только горесть. Я прошу ответа у горести, но убеждаюсь, что она нема. А если бы горесть заговорила, она была бы слаще довольства.
За двадцать пять прошлых лет я много любил. И часто я любил то, что ненавидят люди, и ненавидел то, что они считают прекрасным. То, что я любил мальчиком, я не перестаю любить и теперь, и то, что я люблю теперь, я буду любить до конца жизни. Ведь любовь – это все, что я могу обрести, и никто не может лишить меня ее.
Я любил смерть многажды; я звал ее сладкими именами и воспевал любовь к ней и тайно, и явно. И хотя я не забыл про смерть и не нарушил завета с нею, но я стал любить также и жизнь. Ведь смерть и жизнь равны для меня в красоте, сходны в наслаждении. Они вместе взрастили мою страсть и тоску, вместе разделили мою любовь и привязанность.
Я полюбил свободу, и любовь моя росла, как росло мое знакомство с рабством людей, плененных несправедливостью и унижением. Она ширилась, как ширилось мое понимание их покорности перед ужасными идолами, вытесанными веками мрака, водруженные вечным невежеством, края которых сглажены прикосновением губ рабов. Но я полюбил этих рабов, как полюбил свободу. Я их жалею, потому что они слепцы; они идут в кровавую пасть хищников и не видят; они впитывают яд мерзких ехидн и не чувствуют; своими ногтями они роют себе могилу и не знают про это. Я полюбил свободу больше всего другого; я увидел, что это красавица, истомленная одиночеством, изнуренная разлукой. Она стала прозрачным призраком, который бродит среди домов, останавливается на поворотах улиц, взывает к прохожим, но они не слушают ее и не оборачиваются.
За двадцать пять лет я полюбил счастие, как и все люди. Каждый день, проснувшись, я искал его, как ищут они. Но никогда я не находил его на их дороге, не видел следов от его ног на песке около их дворцов и не слышал отзвука его голоса, разносившегося через окна их храмов. Когда же я стал искать его в одиночестве, я услыхал, как душа шептала мне в уши: «Счастье – дева, которая рождается и живет в глубинах сердца, но никогда не приходит к нему извне». Когда я открыл сердце, чтобы посмотреть на счастье, я нашел там его зеркало, трон и одеяние, но его самого не нашел.
И полюбил я людей – полюбил их сильно. Люди же в моем законе – три человека. Один проклинает жизнь, другой благословляет ее, третий – созерцает. И полюбил я первого за его несчастие, второго за его кротость, третьего за его мудрость.
Вот истекли двадцать пять лет; вот прошли дни и ночи поспешно, друг за другом, опадая с моей жизни, как падают листья деревьев от осеннего ветра.
Сегодня я стою в размышлении, как усталый путник, дошедший до половины перевала, смотрю во все стороны, но не вижу в прошлом у своей жизни следа, на который мог бы указать пред лицом солнца со словами: «Это – мое». Не нахожу я во временах своего года жатвы, кроме листков, окрашенных каплями черных чернил, и странных, разбросанных тут и там картин, наполненных линиями и красками, разнообразными, однородными. В эти рассыпанные листы и сваленные картины я завернул, как в саван, и похоронил свои чувства, мысли и сны; так сеятель хоронит зерна в недрах земли. Только сеятель, выйдя в поле и бросив семена в складки праха, возвращается вечером домой, надеясь, уповая и ожидая дней жатвы и сбора. Я же побросал зерна своего сердца без надежды, упования и ожидания.
И вот теперь я дошел до этой стоянки в жизни. Прошлое представляется мне сквозь туман вздохов и тоски, будущее выступает пред моими глазами сквозь завесу прошлого. Я стою и смотрю на бытие через стекло своего окна; я вижу лица людей и слушаю голоса, поднимающиеся в пространство. Я слышу звук их шагов среди жилищ, чувствую прикосновение их душ, колебание стремлений и биение сердец. Я смотрю и вижу, как дети играют, бегают и бросают песок в лицо друг другу со смехом и хохотом. Я вижу, как проходят юноши, энергично подняв головы, как будто бы они читают поэму юности, начертанную на краях облаков, подбитых лучами солнца. Я вижу девушек, которые раскачиваются и изгибаются, как ветви, улыбаются, как цветы, и смотрят на юношей сквозь веки, дрожащие от склонности и влечения. Я вижу, как неторопливо проходят старики со сгорбленными спинами; они опираются на палку, устремив взоры в землю, как будто разыскивают в пыли потерянные драгоценности. Я стою около окна и смотрю внимательно на все эти формы и призраки, спокойные в своем движении, летящие в своей медлительности по улицам и закоулкам города. Потом я присматриваюсь внимательно к тому, что за городом, и вижу поля со всей их грозной красотой, многозначительным покоем, высокими холмами, глубокими долинами, возвышающимися деревьями, колеблющейся травой, благоуханными цветами, журчащими ручьями, поющими птицами. Потом я смотрю на то, что за полями, и вижу море со всеми таящимися в его глубине чудесами и дивами, тайнами и сокровенностями, со всеми покрывающими его поверхность волнами, пенящимися, злобствующими, спешащими и успокаивающимися, с туманами, которые поднимаются, рассеиваются и падают. Потом я смотрю, вглядываясь в то, что за морем, и вижу бесконечное пространство со всеми плавающими в нем мирами, блестящими звездами, солнцами и лунами, планетами и кометами, с заключенными между ними силами притяжения и отталкивания, мирными, враждебными, возрождающимися, изменяющимися, держащимися законом, которому нет конца и предела, покорными всеобщему уставу, началу которого нет начала и концу – конца. Я гляжу и присматриваюсь ко всему этому сквозь стекло моего окна; я забываю про двадцать пять лет и все прошедшие до них века, и те столетия, которые пройдут после них. И представляется мне мое бытие и окружающая его среда со всем, что я таю и возвещаю, одним атомом вздоха ребенка, дрожащим в пустоте с вечной глубиной, бесконечной высотой, беспредельными границами. Но я чувствую бытие этого атома – этой души, этого существа, которое зову своим «я». Чувствую ее движение, слышу ее шум. Она поднимает теперь свои крылья ввысь, а руки простирает во все стороны и колеблется, содрогаясь, как в тот день, что выявил ее в бытии.
Голосом, поднимающимся из своей святая святых, она возглашает: „Мир тебе, жизнь; мир тебе, явь; мир тебе, видение; мир тебе, день, заливающий своим светом мрак земли; мир вам, времена года; мир тебе, весна, возвращающая юность земле; мир тебе, лето, распространяющее славу солнца; мир тебе, осень, дарующая плоды усилий и жатву трудов; мир тебе, зима, возвращающая своими бурями силу природе; мир вам, года, открывающие то, что скрыли года; мир вам, века, исправляющие то, что погубили века; мир тебе, время, движущее нас к совершенству; мир тебе, дух, держащий поводья жизни, скрытый от нас завесой солнца; мир и тебе, сердце, ибо ты можешь размышлять о мире, утопая в слезах, и мир вам, губы, ибо вы можете произносить слово «мир», чувствуя горечь внутри“...



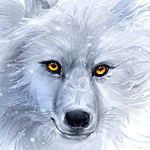
















… Ты спрашиваешь, как я стал безумцем. Случилось это так.
В незапамятные времена, когда многие Боги еще не родились, я очнулся от глубокого сна и увидел, что мои маски похищены – все семь масок, которые я сам вылепил и носил в семи жизнях. – и я, без маски, пустился бежать по людным улицам с воплем: «Воры, гнусные воры!»
Мужчины и женщины насмехались надо мной, а иные, в испуге, прятались в домах.
Когда я вбежал на рыночную площадь, один юноша, стоявший на кроште дома, воскликнул: «Глядите, глядите, безумец!» Я поднял на него взор, и солнце впервые поцеловало мое голое лицо. Впервые солнце поцеловало мое голое лицо, моя душа вспыхнула любовью к солнцу, и маски сделались лишними. И в исступлении я вскричал: «Блаженны, блаженны воры, похитившие мои маски!»
Так я стал безумцем.
В этом безумии я открыл для себя свободу и безопасность; свободу одиночества и безопасность от того, чтобы быть понятым, ибо те, кто понимает нас, порабощают в нас нечто.
Но не пристало мне слишком кичиться своей безопасностью. Даже вору в тюрьме и тому не грозит опасность от другого вора.
… В стародавние времена, когда речь впервые затрепетала на моих устах, я взошел на святую гору и воззвал к Богу:
«Господи, я твой раб. Твоя сокровенная воля – закон для меня, и тебе я буду повиноваться до скончания века».
Но не дал ответа Бог – унесся, подобный ярой буре.
Через тысячу лет, взошедши на святую гору, я вновь воззвал к Богу:
«Творец, я твое творение. Из глины ты вылепил меня, и тебе я обязан всем, что я есть».
Не дал Бог ответа – унесся, подобный тысяче быстрых крылий.
Через тысячу лет я поднялся на святую гору и вновь воззвал к Богу:
«Отче, я твой сын. По милосердию и любви своей ты родил меня, и в любви и поклонении я наследую твое царство».
Не дал Бог ответа – исчез, подобный туману, павшему на дальние холмы.
Еще через тысячу лет я поднялся на святую гору и вновь воззвал к Богу:
«Мой Боже, моя цель и мое свершение; я – твое вчера, а ты – мое завтра. Я – твой корень в земле, а ты – мой цветок в небесах, и вместе взрастаем мы перед лицом солнца».
Тогда Бог приклонился ко мне и прошептал на ухо сладостные слова, и точно море, вбирающее в себя бегущий к нему ручей, он обнял меня.
И когда я спустился в долы и на равнины, Бог тоже был там.
… Мой друг, я не таков, каким кажусь тебе. Кажимость – всего лишь одежда, которую я ношу, – со тщанием сотканная одежда, оберегающая меня от твоих расспросов, и тебя – от моего безразличия.
Мое «Я», друг мой, обитает в доме молчания, и там оно пребудет вовек, непознанное и недосягаемое.
Я не хочу, чтобы ты верил моим словам и полагался на то, что я делаю, ибо мои слова не более как твои собственные мысли, обретшие звучание, а дела мои – твои воплощенные надежды.
Когда ты говоришь: «Ветер веет на восток», я соглашаюсь: «Да, он веет на восток», ибо не хочу, чтобы ты знал, что разум мой обитает не на ветру, но на море. Ты не можешь понять мои мысли, рассекающие морскую гладь, но я и не хочу, чтобы ты их понимал. Я буду в море один.
Когда для тебя день, мой друг, для меня – ночь; но и тогда я говорю о полудне, что пляшет на холмах, и о лиловой тени, скользящей по долине, ибо тебе недоступны песни моей тьмы и не дано увидеть, как мои крылья бьются о звезды, – и я рад, что ты этого не слышишь и не видишь. Я буду с ночью наедине. Когда ты всходишь в свой Рай, а я спускаюсь в свой Ад – даже тогда ты зовешь меня с другого края непреодолимой бездны: «Мой спутник, мой товарищ!» – и в ответ я зову тебя: «Мой товарищ, мой спутник!» – ибо не хочу, чтобы ты увидел мой Ад – пламя опалит твой взор, ты задохнешься дымом. К тому же я слишком люблю свой Ад, чтобы допустить тебя туда. Я буду в Аду один.
Ты любишь Справедливость, Истину и Красоту, и я, тебе же на пользу, говорю, что любить их – достойно и прекрасно. Но в душе смеюсь над твоей любовью. И все же не хочу, чтобы ты слышал мой смех. Я буду смеяться один.
Мой друг, ты – добр, осмотрителен и мудр, ты само совершенство, и я тоже говорю с тобою мудро и осмотрительно. И все же я безумец. Но я таю безумие под маской. И буду безумствовать один.
Мой друг, ты вовсе мне не друг, но как мне втолковать тебе это? Мой путь отличен от твоего, хотя мы идем вместе, рука об руку.
… Раз, когда я хоронил одно из моих умерших «Я», проходивший мимо могильщик проговорил:
– Из всех, кто хоронит здесь своих мертвецов, ты один мне по нраву.
– Рад это слышать, – сказал я, – но чем же я так полюбился тебе?
– А тем, – отвечал он, – что другие приходят и уходят с плачем, один ты приходишь с улыбкой и уходишь с улыбкой.
– Я похож на тебя, Ночь, темная и нагая; я иду пылающей тропою, что вьется над моими снами наяву, и там, где моя нога касается земли, вздымается исполинский дуб.
– Нет, Безумец, ты не похож на меня, ибо все еще оглядываешься назад, желая увидеть, велик ли след, что ты оставил на песке.
– Я похож на тебя, Ночь, безмолвная и непроглядная; и в сердце моего одиночества в родах лежит Богиня; и в нарождающемся Небеса соприкасаются с Адом.
– Нет, Безумец, ты не похож на меня, ибо ты еще страшишься боли и песнь бездны повергает тебя в ужас.
– Я похож на тебя, Ночь, неистовая и ужасная, ибо слух мой полнится стенаниями покоренных народов и горестными вздохами по запустелым землям.
– Нет, Безумец, ты не похож на меня, ибо все еще мнишь товарищем свое меньшее «Я», а со своим чудовищным «Я» не можешь подружиться.
– Я похож на тебя, Ночь, жестокая и страшная; вот и отсветы горящих на море кораблей мерцают на моей груди, и губы мои омочены в крови убитых воинов.
– Нет, Безумец, ты не похож на меня, ибо все еще тоскуешь по родственному духу и не стал еще законом над самим собою. – Я похож на тебя, Ночь, веселая и ликующая, ибо живущий под моей сенью ныне пьян молодым вином и идущая мне вслед грешит с радостью. – Нет, Безумец, ты не похож на меня, ибо душа твоя повита семижды сложенной пеленой, и ты не держишь сердце свое в своей руке. – Я похож на тебя, Ночь, терпеливая и страстная, ибо в моей груди тысяча мертвых любовников покоятся в саванах из увядших поцелуев. – Вот как, неужели ты похож на меня, Безумец? Похож на меня? И можешь оседлать бурю, словно коня, и крепко сжимать молнию, словно меч? – Похож на тебя, Ночь, на тебя, всесильная и величественная, и мой престол покоится на груде павших Богов; и передо мной тоже проходят дни и целуют край моих одежд, но глаз на меня никогда не подымают. – Неужели ты похож на меня, дитя моего темнейшего сердца? И мыслишь моими неукротимыми мыслями, и говоришь на моем безмерном языке? – Да, мы близнецы, о Ночь, брат и сестра, ибо ты приоткрываешь пространство, а я открываю свою душу.
… Мы с моей душой отправились искупаться в великом море. Выйдя на берег, мы решили приискать скрытый от чужих взоров уединенный уголок.
Дорогой мы встретили человека, сидевшего на сером утесе, который доставал соль из мешка и по щепотке бросал ее в море.
– Это пессимист, – сказала мне душа. – Мы не станем здесь купаться. Поищем другое место.
Мы двинулись дальше и дошли до небольшой бухты, где увидели человека, стоявшего на белом утесе. В руках у него был ларец, украшенный драгоценными каменьями, из которого он доставал кусочки сахара и бросал в море.
– Это оптимист, – заметила душа. – Он тоже не должен видеть нас голыми.
Мы пошли дальше и на отмели увидели человека, который подбирал дохлых рыб и бережно опускал их в воду.
– Не будем купаться на глазах у него, – сказала мне душа. – Он филантроп.
И мы прошли мимо.
Чуть дальше мы увидели человека, обводившего контур своей тени на песке. Высокая волна смывала рисунок. Но он без устали продолжал свое занятие.
– Он мистик, – вымолвила душа. – Оставим его. И мы шли дальше по взморью, пока не увидели человека, который, укрывшись в прибрежной пещере, собирал пену и наполнял ею алавастровую чашу.
– Это идеалист, – шепнула мне душа. – Уж он-то никак не должен видеть нашей наготы!
И мы отправились дальше. Вдруг мы услышали чей-то крик: «Вот море. Вот глубокое море. Вот неоглядное могучее море!»
Когда же мы вышли к тому месту, откуда доносился голос, нашим глазам предстал человек, стоявший к морю спиною, который, приложив к уху раковину, вслушивался в ее глухой гул.
– Пойдем дальше, – предложила мне душа. – Он реалист – тот, что поворачивается спиною к целому, которого ему не объять, и пробавляется какой-нибудь частицей.
И опять нам пришлось пуститься в путь. На покрытом водорослями берегу среди скал мы приметили человека, который лежал, зарывшись в песок с головой. И тут я сказал моей душе:
– Вот где мы можем искупаться – уж он-то нас не увидит.
– Нет! Ни за что! – воскликнула душа. – Ведь он из них самый зловредный. Это же святоша.
И великая грусть легла на лицо моей души и проникла в ее голос.
– Уйдем отсюда, – промолвила она. – Здесь нам все равно не найти уединенного, укромного места для купания. Я не хочу, чтобы этот ветер развевал мои золотистые волосы, чтобы струи этого воздуха коснулись моей белой груди, и не позволю солнечному свету обнажить мою святую наготу.
И мы покинули те берега и отправились на поиски Величайшего Моря.
… В тени храма мы с другом увидели сидевшего в одиночестве слепца.
– Вот мудрейший человек в нашей стране, – сказал мне друг.
Простившись с ним, я подошел к слепцу и приветствовал его. Мы разговорились и немного погодя я спросил:
– Прости мне мой вопрос, с коих пор ты перестал видеть?
– Я родился слепым, – промолвил он.
– И какую же тропу мудрости ты избрал? – поинтересовался я.
– Я астроном, – ответил слепец и, приложив руку к груди, добавил: – Вот за этими солнцами, лунами и звездами я наблюдаю!
… Когда родилась моя Печаль, я заботливо выхаживал ее и оберегал с нежностью и любовью.
Моя Печаль росла, как и все живое, росла сильная, прекрасная, исполненная прелести и очарования.
И мы с Печалью любили друг друга и любили окружавший нас мир, потому что у Печали было доброе сердце и мое рядом с нею становилось добрее.
Когда мы с Печалью разговаривали, наши дни обретали крылья и сновидения обвивали наши ночи, потому что Печаль говорила ярким языком и мой язык становился рядом с нею ярче.
Когда мы с Печалью пели, соседи садились у окон послушать нас, потому что наши песни были глубокими, как море, и их мелодии были полны причудливых воспоминаний.
Когда мы шли вместе с Печалью, люди провожали нас нежным взглядом и шептали вслед самые ласковые слова. А иной раз посматривали на нас завистливыми глазами, потому что Печаль была благородна и я гордился ею.
Но моя Печаль умерла, как умирает все живое, и оставила меня наедине с моими мыслями и раздумьями. И теперь, когда я говорю, слова свинцом падают с губ.
Когда я пою, соседи не хотят слушать моих песен. Когда иду по улице, никто даже не взглянет на меня. И только во сне я слышу, как кто-то сочувственно говорит:
– Глядите, вот лежит человек, чья Печаль умерла.
… а когда родилась моя радость
А когда родилась моя Радость, я взял ее на руки и, взойдя на кровлю дома, вскричал:
– Приходите, соседи, посмотрите, что за Радость сегодня родилась у меня! Приходите, люди добрые, поглядите, как она беззаботно веселится и смеется под солнцем!
Но, к моему великому изумлению, ни один из соседей не пожелал посмотреть на мою Радость.
Семь месяцев подряд каждый день я всходил на кровлю дома и возвещал рождение Радости, однако никто не внимал моим словам. Так мы и жили, я и Радость, в полном одиночестве, и никому не было до нас дела.
И вот лицо Радости сделалось бледным и печальным, потому что ничье другое сердце, кроме моего, не восторгалось ее очарованием и ничьи другие губы не касались поцелуем ее губ.
И вот Радость моя умерла – не вынесла одиночества.
И теперь я лишь тогда вспоминаю умершую Радость, когда вспоминаю умершую Печаль. Но память – это осенний лист, который, прошелестев на ветру, умолкает навсегда.
… Бог затерянных душ! Ты, затерянный среди Богов, внемли мне!
Милостивая Судьба, хранящая нас, безумных странствующих духов, внемли мне!
Я, несовершеннейший, живу среди племени совершенных.
Я, человеческий хаос, туманность смешавшихся стихий, движусь среди конечных миров – людей с их непреложными законами и строгим порядком, с их приведенными в стройные системы мыслями, упорядоченными мечтаниями, с их исчисленными и выверенными представлениями.
Мой боже, их добродетели отмерены, их пороки взвешены и даже все то бессчетное, что проходит в мглистых сумерках между пороком и добродетелью, – все это описано и учтено.
Дни и ночи делятся у них на доли, четко определяющие их поступки, и подчиняются безукоризненно точным правилам:
Есть, пить, прикрывать наготу, а затем, в должный срок, испытывать усталость.
Трудиться, играть, петь, плясать, а затем, в урочное время, ложиться и недвижно лежать.
Мыслить так-то, чувствовать столько-то, а затем, с восходом некой звезды, переставать мыслить и чувствовать.
Обирать ближнего с улыбкой и щедрой рукой рассыпать дары, льстить с тонким расчетом, хитро обвинять, разъедать словами чью-нибудь душу, жечь дыханием чье-то тело, а затем, вечером, покончив со всеми делами, умыть руки.
Любить, как велит заведенный искони порядок; судить о лучшем, что есть в другом, с предвзятостью; подобающим образом поклоняться Богам; ловко расстраивать бесовские козни, а после начисто забыть обо всем, словно память помертвела.
Предаваться мечтаниям, когда к тому есть повод; сосредоточенно погружаться в раздумья; безмятежно наслаждаться счастьем; страдать с достоинством, а затем осушить чашу до капли в надежде, что завтрашний день наполнит ее вновь.
Все это, о Боже, замыслено намеренно, произведено на свет обдуманно, взлелеяно со тщанием, подчиняется всем правилам, направляется разумом, а затем умерщвляется и погребается по велению обычая. И даже скрывающие их немые могильные холмы, что разбросаны по дну человеческой души, все помечены и сочтены. Вот он, идеальный мир, мир высочайшего совершенства, мир невиданных чудес, самый спелый плод в Божием саду, учительная мысль Вселенной.
Только для чего здесь я, Боже, я – незрелое семя неосуществленной страсти, обезумевшая буря, что не ищет ни востока, ни запада, сбившийся с пути осколок сгоревшего светила?
Для чего здесь я, о Бог затерянных душ, сам затерянный среди Богов?
… Как-то из пустыни в великий город Шарию пришел один странник, у которого только и было что одеяние да посох в руках.
Проходя по улицам Шарии, он изумленно и благоговейно взирал на храмы, башни и дворцы этого необыкновенно красивого города. И много раз он заговаривал с прохожими, расспрашивая их об увиденном, однако ни они, ни он не понимали языка друг друга.
В полдень он остановился перед величественным зданием, сложенным из желтого мрамора. Люди входили в него и выходили совершенно беспрепятственно.
«Должно быть, это святилище», – подумал пришелец и тоже вошел туда. Но каково же было его удивление, когда он очутился в великолепной зале, где за столами сидело множество мужчин и женщин. Они ели, пили и слушали музыкантов.
– Нет, – сказал себе пришелец, – что-то непохожи они на молящихся. Это, верно, пиршество, которое устраивает царевич в честь какого-нибудь знаменательного события.
В это мгновение один человек, принятый странником за царского раба, подошел к нему и пригласил к столу. И ему подали мясо, и вино, и самые изысканные сладости.
Насытившись, он встал, собираясь уйти. У двери его остановил рослый мужчина в пышных одеждах.
«Верно, это сам царевич», – сказал в своем сердце пришелец и, поклонившись, возблагодарил его.
В ответ рослый мужчина сказал на языке своего города:
– Господин, ты не заплатил за угощение.
А тот не понял его слов и вновь сердечно поблагодарил. Рослый мужчина сперва озадачился, однако, вглядевшись пристальнее и смекнув по убогой одежде чужестранца, что тому просто нечем заплатить за еду, хлопнул в ладоши и громко позвал. На его зов тотчас явились четверо стражников. Они выслушали приказ и взяли странника под стражу, став по двое с каждой стороны от него. Тот отметил про себя, как они разодеты и как чинно держатся, что привело его в восхищение.
«Верно, это знатные особы», – заключил он.
Все вместе они проследовали к зданию суда и вошли в него. Там, увидев перед собой почтенного мужа с волнистой бородой, в роскошной мантии восседавшего на троне, странник подумал, что предстал перед царем, и чести такой возрадовался.
Когда стражники доложили судье, которым на самом деле был сей почтенный муж, в чем обвиняется доставленный, судья назначил двух присяжных, дабы один из них представлял обвинение, а другой – защиту. И те, поочередно вставая со своих мест, привели каждый свои доводы. А пришелец решил, что слышит приветственные речи, и сердце его преисполнилось благодарности к царю и царевичу за все для него содеянное.
Затем был вынесен приговор, согласно которому следовало повесить на шею чужестранца табличку с указанием его вины, а самого его верхом на неоседланной лошади провезти по городу, с трубачом и барабанщиком впереди. И приговор был тотчас же приведен в исполнение.
Когда осужденный верхом на лошади проезжал по городу, то на громкий шум, производимый шедшими впереди трубачом и барабанщиком, сбежались горожане и, увидев чужестранца, все как один подняли его на смех, а дети стайками бросились бежать за ним по улицам. И безмерным восторгом наполнилось сердце странника, и глаза его сияли, ибо он думал, что табличка у него на шее – знак царской милости, а шествие устроено в его честь.
Вдруг он увидел в толпе человека, который, как и он, пришел сюда из пустыни. Его сердце преисполнилось радости, и он громко выкрикнул:
– Эй, друг! Где это мы очутились с тобою? Что это за вожделенный град? Что за щедрый народ здесь живет? В своих дворцах они чествуют случайного гостя, их царевичи у себя принимают его, их царь вешает знак отличия ему на грудь и являет ему все радушие города, поистине, сошедшего с небес!
Но тот, что тоже пришел из пустыни, ничего не сказал в ответ. Он только улыбнулся, слегка кивнув головой. А шествие проследовало дальше.
И лицо странника было высоко поднято, и в глазах его сиял свет.
… Как-то в юности мне довелось посетить одного святого старца в уединенной роще за холмами. Мы беседовали о природе добродетели, когда заметили разбойника, с трудом взбиравшегося по хребту.
Достигнув рощи, тот пал перед старцем на колени и сказал:
– О святой человек, облегчи мне душу. Мои грехи тяготят меня.
– И мои грехи меня тяготят, – молвил святой.
– Но я вор и грабитель, – сказал разбойник.
– И я вор и грабитель, – отвечал святой.
– Но я убийца! – воскликнул разбойник. – И в ушах моих вопли множества людей, чью кровь я пролил.
– И я убийца, – отвечал святой, – и мои уши полнятся воплями тех, кого я умертвил.
– Я совершил несметное число преступлений, – не унимался разбойник.
– И моим преступлениям нет числа, – отвечал святой.
Тут разбойник поднялся с колен и пристально посмотрел на старца, и было некое недоумение в его взгляде.
Когда он оставил нас и вприпрыжку сбежал с холма, я повернулся к святому и спросил:
– К чему ты обвинял себя в преступлениях, которые не совершал? Разве не видишь, что человек этот ушел, больше в тебя не веря?
И ответил святой:
– Это правда, он больше не верит в меня. Но зато он ушел премного утешенный.
И тут донеслась до нас песня, которую вдали распевал разбойник и отзвуки которой наполнили долину радостью.
… Вот что произошло однажды.
После коронации Нуфсибааль, царь Библоса, удалился в свою опочивальню – тот самый чертог, что возвели для него три горных отшельника-чародея.
Он снял корону и царское одеяние и остановился посреди опочивальни, размышляя о себе, теперь уже всемогущем правителе Библоса.
Внезапно он обернулся и увидел, как из серебряного зеркала, подаренного ему матерью, выходит нагой человек.
– Чего тебе? – воскликнул пораженный царь.
– Ничего, – ответил нагой человек. – Скажи лишь, почему венчали тебя на царство?
– Потому что я благороднейший человек в стране, – дал ответ царь.
Тогда нагой человек молвил:
– Будь ты еще благороднее, не стал бы царем.
– Меня короновали, – заявил царь, – ибо я самый могущественный человек в стране.
– Будь ты еще более могущественным, – молвил нагой человек, – не стал бы царем.
– Меня венчали на царство, ибо я мудрейший человек, – изрек тогда царь.
А нагой молвил:
– Будь ты еще мудрее, не польстился бы на престол.
Повалился тогда царь наземь и горько зарыдал. Нагой человек посмотрел на него, поднял корону, заботливо возложил ее на поникшую голову царя и, не отрывая от него участливого взора, вошел в зеркало.
Поднявшись, царь сразу же посмотрел в зеркало. И не увидел там ничего, кроме себя – увенчанного короной.
… По ту сторону моего одиночества есть другое одиночество, и для того, кто в нем пребывает, мое уединение – людная рыночная площадь, а мое молчание – гул волнующейся толпы.
Слишком я молод и слишком мятежен, чтобы отправиться на поиски этого высшего одиночества. Голоса здешней долины все еще пленяют мой слух, а тени ее преграждают мне путь, мешают расстаться с нею.
По ту сторону этих холмов раскинулась чародейная роща, и для того, кто в ней пребывает, мой покой – сущий ураган, а мое чародейство – призрак.
Слишком я молод и слишком необуздан, чтобы отправиться на поиски этой священной рощи. Мне не избавиться от вкуса крови во рту, а рука все еще сжимает лук и стрелы моих отцов – и это мешает мне уйти.
По ту сторону этого отягченного «Я» живет мое свободное «Я», и для него мои сны – ратное побоище в сумерках, а мои желания – хруст костей. Слишком я молод и слишком принижен, чтобы быть своим свободным «Я».
Да и как мне этого добиться, пока не расправлюсь со своими отягченными «Я» или пока все люди не станут свободными?
Разве смогут мои листья с песней разнестись по ветру, покуда корни мои не иссохнут во тьме?
Разве может орел во мне воспарить навстречу солнцу, покуда мои птенцы не покинули гнезда, которое я сам, своим клювом для них построил?
… В половодье ночи, когда повеяло первым рассветным дуновением, Предтеча – тот, что зовет себя эхом гласа неслыханного, – покинул опочивальню и взошел на крышу своего дома.
Долго стоял он, глядя вниз на дремлющий город. Но вот он поднял голову, и, точно обступили его бессонные духи всех спавших, разомкнул уста, и заговорил:
– Друзья мои, и мои ближние, и вы, каждодневно проходящие мимо ворот моих, я хочу вам открыться во сне вашем, долиной сновидений ваших хочу пройти обнаженным и раскованным; ибо слишком беспечны вы в часы бодрствования и глухи ваши отягченные звуками уши.
Долго я любил вас и чрезмерно.
Я любил одного средь вас, как если б он был всеми, и всех, как если б вы были одним-единственным. И весною моего сердца я пел в ваших садах, и летом моего сердца я сторожил тока ваши.
Да, я любил вас всех, исполинов и карликов, прокаженных и помазанников, и того, кто ощупью бредет во тьме, и того, кто проводит свои дни в пляске среди гор.
Тебя, сильный, я возлюбил, хотя плоть моя еще хранит следы твоих железных копыт; и тебя, слабый, хотя ты иссушил мою веру и истощил мое терпение.
Тебя, богатый, я возлюбил, пусть горек был твой мед для уст моих; и тебя, бедный, хотя укором был ты моим пустым рукам.
Тебя, поэт с расстроенной лютней и слепыми пальцами, я возлюбил из снисходительности; как и тебя, ученый муж, извечно собирающий сгнившие саваны в земле горшечника .
И тебя я возлюбил, жрец, среди молчания вчерашнего дня вопрошающий о жребии моего завтра; и вас, почитатели Божеств, поклоняющиеся образам своих собственных желаний.
Тебя, жаждущая женщина, чья чаша всегда полна, я возлюбил, потому что понимаю тебя; тебя же, прислужница бессонных ночей, я возлюбил из сострадания.
Тебя, словоохотливый, я возлюбил, говоря: «У жизни достанет, что сказать»; и тебя, немой, я возлюбил, шепча себе: «Не говорит ли он в своем молчании то, что я с радостью услышал бы сказанным вслух?»
И вас, судья и критик, также возлюбил я; однако вы, когда увидели меня распятым, сказали: «Как мерно истекает он кровью и как прекрасен узор, который кровь оставляет на его белой коже».
Да, я возлюбил вас всех, старые и молодые, дуб и трепещущий тростник.
Но увы! Эта переполненность моего сердца и отвратила вас от меня. Вам по душе пить любовь из чаши, а не упиваться ею в речной стремнине. Ваш слух ласкает едва слышное любовное лепетанье, когда же любовь криком кричит, вы затыкаете уши.
И потому, что я возлюбил вас всех, вы сказали:
– Слишком мягко и уступчиво его сердце, и слишком призрачна его стезя. Это любовь обездоленного, подбирающего все до единой крошки, даже когда пирует за царским столом. И это любовь слабодушного, ибо сильный любит только сильного.
И потому, что я возлюбил вас сверх меры, вы сказали:
– Это не иначе как любовь слепца, которому неведома ни красота одного, ни безобразие другого. Это любовь лишенного вкуса, пьющего уксус, точно это вино. И это любовь дерзкого и самонадеянного, ибо как может чужак стать нам матерью, и отцом, и сестрой, и братом?
Так говорили вы, но этого вам было мало. Ибо часто на рыночной площади вы указывали на меня пальцами и усмехались: «Вот идет человек без возраста, муж без возмужалости, в полдень забавляющийся играми с нашими детьми и на исходе дня сидящий с нашими старцами и прикидывающийся мудрым и проницательным».
И сказал я себе: «Больше прежнего я буду любить их. Да, еще больше. Я укрою мою любовь притворной ненавистью и под личиной жестокости упрячу нежность мою. Я надену железную маску, кольчугу, вооружусь – и только тогда взыщу их».
И вот я возложил тяжелую руку на ваши язвы и, как буря в ночи, прогрохотал в ушах ваших.
С крыши дома я провозгласил, что вы лицемеры, фарисеи, обманщики, пузыри земли, фальшивые и пустые.
Близоруких среди вас я проклял за нетвердый шаг, а тех, кто припадал к земле, я уподобил бездушным кротам.
Красноречивых я окрестил пустомелями, молчаливых – косноязычными, а простых и безыскусных назвал мертвецами, никогда не устающими умирать.
Домогающихся вселенского знания я осудил как оскорбителей святого духа, а тех, кто не алчет ничего, кроме духа, я назвал ловцами призраков, забрасывающими свои сети в мелководье и не уловляющими ничего, кроме собственных отражений.
Так своими устами я поносил вас, в то время как мое сердце, обливаясь кровью, называло вас нежными именами.
Это любовь, что рекла в самобичевании. Это полуубитая гордыня барахталась в пыли. Это моя жажда любви вашей бушевала на крыше дома, тогда как собственная любовь моя, в молчании преклонив колена, молила вас о прощении.
Но случилось чудо!
Именно моя личина открыла вам глаза и именно моя притворная ненависть пробудила ваши сердца.
И теперь вы любите меня.
Вы любите мечи, сражающие вас, и стрелы, метящие в грудь вашу. Ибо по душе вам быть попираемыми, и только тогда вы опьяняетесь, когда пьете от собственной крови.
Подобно мотылькам, ищущим в пламени свою погибель, вы ежедневно собираетесь в моем саду и, подняв лица, следите горящими глазами, как я раздираю ткань ваших дней. И вы переговариваетесь шепотом:
– Его взор осиян божественным светом. Он говорит, как древле пророки. Он совлекает покров с наших душ и отпирает наши сердца, и как орел, что знает лисьи тропы, он ведает пути наши.
Да, воистину мне ведомы ваши пути, но только как орлу – пути его птенцов. И я бы открыл вам мою тайну. Однако жажда вашей близости понуждает меня притворяться неприступным, а страх перед отливом любви вашей – сдерживать напор собственной любви.
Молвив это, Предтеча закрыл лицо руками и горько зарыдал. Ибо знал он в сердце своем, что любовь, униженная в своей наготе, выше любви, взыскующей торжества в личине. И он устыдился.
Но внезапно он поднял голову и, словно пробуждаясь ото сна, простер руки и изрек:
– Ночь минула, и когда на холмы явится стремительный рассвет, нам, детям ночи, суждено умереть. И из нашего праха подымится более могущественная любовь. И возликует она под солнцем и пребудет бессмертной!
… Люди – рабы жизни, и сама жизнь – рабство, бесчестием и позором покрывающая их дни, слезами и кровью наполняющая их ночи.
Семь тысяч лет минуло с того дня, как я родился впервые, но до сих пор я видел лишь покорных рабов да закованных в цепи узников.
Я обошел всю землю, был на Востоке и на Западе. Я странствовал в тени Жизни и при ясном свете ее. Я был свидетелем того, как нации и народы выходили из пещер и воздвигали дворцы. Но до сих пор я видел только спины, согнувшиеся под тяжкой ношей, только руки в оковах да колени, преклоненные перед идолами.
Я шел за человеком от Вавилона до Парижа, от Ниневии до Нью-Йорка. И всюду видел на песке следы оков рядом со следами ног и слышал, как леса и долины вторят стенаниям поколений и веков.
Я видел дворцы, храмы науки и святые места. Я останавливался перед тронами, кафедрами и алтарями. И я видел, что везде рабочий человек – раб дельца, делец – раб воина, воин – раб правителя, правитель – раб жреца, жрец – раб идола, а идол этот вылеплен демонами из праха и водружен на гору человеческих черепов.
Я входил в дома богатых и сильных и в лачуги бедных и слабых. Я бывал в покоях, украшенных слоновой костью и золотом, и в хижинах, где обитали призраки отчаяния и ощущалось дыхание смерти. И я видел, как младенцы с молоком матери всасывают рабство, как мальчики одновременно учатся грамоте и покорности, как девочки надевают платья на подкладке из повиновения и смирения, как женщины спят на постелях послушания и безропотности.
С поколениями людей шел я от берегов Ганга к берегам Евфрата, к устью Нила, к Синайским горам, на площади Афин, к храмам Рима, узким улочкам Константинополя, кварталам Лондона. И я видел, что рядом со славой и величием всегда шествует рабство. Я видел, как юношей и девушек закалывают на алтарях и называют рабство Богом; как льют в честь рабства вина и благовония и называют его царем; как курят фимиам перед его изваяниями и называют его пророком; как преклоняют пред ним колени и называют его законом. Люди сражаются и убивают друг друга во имя рабства и называют это патриотизмом; они покорно склоняются перед ним, называя его земной тенью Бога; повинуясь его воле, они сжигают свои дома и селения и называют это равенством и братством; они отдают рабству все свои силы и время и называют это богатством и торговлей...
У рабства много имен, но сущность всегда одна, множество форм, но неизменное содержание. Рабство – извечная болезнь с разными признаками; дети получают ее от родителей вместе с дыханием жизни; века бросают ее семена в почву веков точно так же, как одно время года пожинает плоды другого.
Удивительные и странные виды рабства встречались мне на пути моем. Я видел Слепое рабство. – Оно накрепко связывает жизнь сегодняшнюю с жизнью прошлой, оно заставляет души людей склоняться перед традициями далеких предков, оно наполняет их молодые тела духом старого, превращая их в свежевыбеленные склепы, полные тлена и праха.
Немое рабство. – Оно привязывает мужчину к ненавистной ему жене и бросает тело женщины на супружеское ложе, к мужу, который ей отвратителен, и обоих их безжалостно попирает нога жизни.
Глухое рабство. – Оно принуждает человека следовать вкусам толпы, окрашиваться в ее цвета, надевать угодные ей одежды; оно превращает его голос в эхо, а его тело – в тень.
Хромое рабство. – Оно заставляет сильных склоняться перед обманщиками, оно подчиняет их волю прихотям честолюбцев, превращая их в машины, которые можно одним движением руки пустить в ход, остановить или сломать.
Седое рабство. – Оно низвергает души детей с заоблачных высот в пропасти горя, где нужда соседствует с невежеством, а унижение – с отчаянием, где они растут в страданиях, живут в преступлениях и умирают в пороке.
Криводушное рабство. – Оно ценит вещи не по стоимости, называет их неверными именами; оно зовет мошенничество прозорливостью, болтовню – ученостью, слабость – кротостью, а трусость – гордостью.
Согбенное рабство. – Оно с помощью страха заставляет двигаться языки слабых людей, и они говорят то, чего не чувствуют, высказывают желания, которых у них нет, и становятся точно тряпки, которые по своей воле сворачивает и разворачивает рука нищеты.
Горбатое рабство. – Оно правит одним народом по законам другого.
Чесоточное рабство. – Оно неизменно возводит на трон царских детей.
Черное рабство. – Оно клеймит позором ни в чем не повинных детей преступников.
И рабство перед рабством. – Это сила инерции.
Когда же я устал идти вслед за поколениями, когда мне наскучило смотреть на шествия народов и наций, я сел в одиночестве в долине теней, где скрываются призраки прошлого и ждут своего часа духи грядущего. И там я увидел призрак, который брел одиноко, пристально глядя на солнце. Я спросил:
– Кто ты? Как твое имя? Он ответил:
– Имя мое – свобода.
– Где же твои сыны? – спросил я. В ответ я услышал:
– Один погиб на кресте. Другой умер, сойдя с ума. А третий еще не родился.
И призрак исчез в тумане.
… Мы сыны горести, вы же сыны веселья.
Мы сыны горести, а горесть – это тень Божества, которая не ляжет поблизости от злосердых; мы владетели опечаленных душ, а печаль столь велика, что мелкие души не в силах вместить ее; вы смеетесь, а мы плачем и стенаем, но тот, кто омоется единожды своими слезами, вовеки пребудет чист.
Вы не знаете нас, мы же вас знаем. Вы мчитесь вместе со стремниной реки жизни, не глядя в нашу сторону, мы же, сидя на берегу, видим и слышим вас. Вы не внемлете нашим крикам – ваши уши полнятся шумом дней, а мы слышим ваши песни, ибо шепот ночей отомкнул нам слух. Мы вас видим, ведь вы стоите при тускло мерцающем свете, но вы нас не видите – мы пребываем в нестерпимо сияющем мраке.
Мы сыны горести – пророки, поэты и музыканты. Мы ткем из нитей своих сердец одежды Богам и зернами своей души наполняем ладони ангелов. А вы – сыны беззаботного веселья и нескончаемых утех, вы влагаете свои сердца в руки пустоты, прельстившись нежностью ее пальцев, ищете отдохновения подле глупости, ибо в доме глупости нет зеркала, где вы увидели бы свое лицо. Мы горестно вздыхаем, и с нашими вздохами поднимается ввысь шепот цветов, шелест ветвей и журчанье ручьев. Вы же смеетесь, и раскаты ваше го смеха сливаются с хрустом черепов, звоном цепей и воплями бездны.
Мы плачем, и наши слезы падают в самое сердце жизни, как капли росы – из глаз ночи в сердцевину рассвета. Вы же улыбаетесь, и из уголков ваших губ струятся язвительные насмешки – так яд стекает со змеиных зубов в рану ее жертвы.
Мы плачем, ибо видим горе вдов и страдания сирот, а вы смеетесь, ибо не видите ничего, ослепленные блеском золота. Мы плачем, так как слышим стон обездоленного и крик притесняемого, а вы смеетесь, так как не слышите ничего, кроме звона бокалов.
Мы плачем, ибо тело отделяет нашу душу от Бога, а вы смеетесь, ибо ваши тела жадно льнут к праху.
Мы – сыны горести, вы – сыны веселья, давайте же положим перед лицом солнца плоды нашей горести и вашего веселья!
Вы воздвигли пирамиды из черепов невольников; ныне эти пирамиды стоят в песках, повествуя поколениям о нашей вечности и вашей бренности. Мы разрушили Бастилию руками свободных духом, и Бастилия в устах наций стала словом, которым они славят нас и проклинают вас. Вы насадили сады Вавилона на костях слабых и возвели дворцы Ниневии на могилах отверженных. А ныне Вавилон и Ниневия уподобились следам, что верблюды оставляют в песках пустыни. Мы изваяли из мрамора статую Астарты, заставив мрамор, скованный недвижностью и немотою, затрепетать и заговорить; мы сыграли на струнах нехавендский напев, и струны те вызвали парящих в пространстве духов влюбленных; мы нарисовали Марию штрихами и красками, и штрихи уподобились мыслям Богов, а краски – чувствам ангелов.
Вы идете вослед развлечениям, растерзавшим своими когтями тысячи тысяч жертв на аренах Рима и Антиохии, а мы следуем за безмолвием, чьи пальцы соткали «Илиаду», «Книгу Иова» и «Большую Таийю». Вы распаляетесь от пагубных страстей, чьи бури увлекли неисчислимое множество женских душ в бездну порока и греха. Мы же обнимаем одиночество, под сенью которого родились муаллаки, «Гамлет» и поэма Данте. Вы внемлете устам алчности, от мечей которой пролились реки крови, а мы дружны с воображением, чьи руки низвели знание из круга вышнего света.
Мы – сыны горести, а вы сыны веселья. Нашу горесть и вашу радость разделяют крутые горы, по тернистым узким тропам которых не пройдут ваши сильные кони и не проедут ваши изящные экипажи.
Мы сочувствуем вашей ограниченности, а вы ненавидите наше величие; и время останавливается между нашим снисхождением и вашей ненавистью, в смятении взирая на нас.
Мы приходим к вам, как друзья, а вы нападаете на нас, как враги, и глубокая пропасть, полная слез и крови, разверзается между дружелюбием и враждебностью.
Мы строим вам дворцы, а вы роете нам могилы, и между великолепием дворцов и могильным мраком железной поступью шагает человечество.
Мы устилаем ваш путь розами, а вы покрываете наше ложе шипами, и между лепестками и шипами розы глубоким, вечным сном спит истина.
Вы извечно стремитесь одолеть наши силы, которые податливы, – своей жестокой слабостью. На единый миг одержав над нами верх, вы от радости кричите жабьими голосами, а мы, одерживая победу над вами на все времена, храним молчание исполинов. Вы распяли Назарянина и, обступив его, глумились над ним и хулили его. Но вот, сойдя с креста, он пошел, словно исполин, одерживая над поколениями победу по духу и по истине и наполняя землю славой и красотой.
Вы умертвили Сократа, побили камнями Павла, сокрушили Галилея, убили Али ибн Аби Талиба, задушили Мидхат-пашу, но все они, как необоримые герои, живы поныне перед лицом вечности. Что же до вас, то вы останетесь в памяти человечества смердящими трупами, и вовек не найдется могильщика, чтобы предать их мраку забвения и небытия.
Мы сыны горести, а горесть – это облака, что проливаются на мир благом и знанием; вы же – сыны веселья, но сколь бы велико ни было ваше веселье, оно подобно столпу дыма, который развеивают ветры и рассеивают стихии.
… В сгустившейся ночной мгле, когда сон своим плащом покрыл лицо земли, я поднялся с ложа и отправился к морю, говоря себе: «Море не ведает сна и в его бодрствовании – утешение бессонному духу».
Когда я подошел к берегу, туман уже спустился с горных вершин и, словно дымчато-пепельное покрывало, наброшенное на лицо юной красавицы, застлал все кругом. Я остановился и стал вглядываться в несметные рати волн, вслушиваться в их буйные клики. Мною завладели мысли о вечных силах, стоящих за ними, о силах, что бушуют вместе с бурями, извергаются с вулканами, улыбаются губами роз и поют вместе с ручьями.
Вскоре я обернулся и вдруг различил смутно проступавшие сквозь пелену тумана очертания трех призраков, восседавших на прибрежной скале. Я медленно побрел к ним, словно влекомый некой неведомой силой, заключенной в их естестве.
В нескольких шагах от них я замер, будто какое-то волшебство внезапно сковало мою волю и пробудило дремавшее в душе воображение.
В эту минуту один из призраков поднялся и проговорил голосом, исходившим, мнилось, из бездны морской:
– Жизнь без Любви подобна дереву нецветущему и бесплодному. Любовь, лишенная Красоты, подобна цветам без запаха и плодам без семян… Жизнь, Любовь и Красота – вот три ипостаси единой абсолютной независимой сущности, неизменной и неделимой!
Так молвил он и сел.
Тогда поднялся второй призрак и голосом, похожим на гул водопада, сказал:
– Жизнь, не знающая Бунта, подобна временам года без весны. Бунт, не знающий Истины, подобен весне в голой бесплодной пустыне… Жизнь, Бунт и Истина – вот три ипостаси единой сущности, нераздельной и неизменной!
За ним поднялся третий и голосом, схожим с громовыми раскатами, проговорил:
– Жизнь, не знающая Свободы, подобна телу без души. Свобода, не знающая Мысли, подобна смятенному духу… Жизнь, Свобода и Мысль – вот три ипостаси единой безначальной сущности, вековечной и нетленной!
Потом все трое встали, заговорили, голоса их слились воедино, и они изрекли слова, приведшие меня в благоговейный трепет: – Любовь и то, что она порождает, Бунт и то, что он созидает, Свобода и то, что она умножает, – суть три явления Божиих. И Бог есть Совесть разумного мира!
Затем настала тишина, наполненная шелестом крылий и трепетанием бесплотных тел. Закрыв глаза, я ловил отзвуки только что услышанного. Но когда вновь открыл их, то взору моему предстало лишь море, одетое туманом. А подойдя к скале, на которой восседали три призрака, я увидел лишь столп благовонных курений, возносящийся к небесам.
… Я чужой в этом мире.
Я чужой, и в этой отчужденности – гложущая тоска и лютое одиночество, но она всегда будит во мне мысли о чудесной неведомой родине и наполняет мои сны видениями далекой земли, никогда прежде не открывавшейся моему взору.
Я чужой среди своих близких и друзей; повстречав кого-нибудь из них, я спрашиваю себя: «Кто это, откуда я знаю его, какой закон связал меня с ним, почему я должен подойти к нему и заговорить?»
Я чужой своей душе, и когда слышу собственные слова, слух дивится моему голосу. Когда порой я наблюдаю, как мое сокровенное «Я» смеется или плачет, дерзает или страшится, все мое существо изумляется самому себе, а дух мой жаждет вникнуть в мой дух. Но нет, я остаюсь все в той же безвестности, нераспознанный, повитый пеленами тумана, укрытый завесой безмолвия.
Я чужой своему телу и всякий раз, когда гляжусь в зеркало, улавливаю в своем лице нечто такое, чего не чувствует моя душа, и читаю в глазах такое, чего не хранят тайники сердца.
Я иду по улицам города, и юноши преследуют меня с криками: «Глядите-ка, слепец! Дадим ему посох – пусть опирается на него!» Я кидаюсь прочь, но меня настигают девушки, хватают за полы одежды со словами: «Он глух, точно скала, наполним его слух напевами страстной и пылкой любви!» Я вырываюсь из их рук, бегу не оглядываясь, но наталкиваюсь на мужчин, которые, обступив меня, говорят: «Он нем, как могила, так поможем ему развязать язык!» В страхе я спешу их покинуть, но встречаю на пути толпу стариков, которые дрожащими пальцами указывают на меня и молвят: «Это безумец, потерявший рассудок на пастбищах злых духов!» Я чужой в этом мире.
Я чужой, и хотя странствовал по всему свету, не нашел отчего края и не встретил ни единого человека, кто бы узнал меня и внял мне.
Утром, пробудившись, я чувствую себя узником в темной пещере, со сводов которой свешиваются ехидны, а по углам ползают скорпионы. Когда я выхожу на свет, тень моего тела тянется следом, а впереди бредут неведомо куда тени моей души, ищущие нечто за пределами моего разумения, хватающие то, что мне вовсе не надобно. Воротившись вечером, я ложусь в постель, набитую страусовым пером и шипами терновника, и странные мысли завладевают мною; тревожные, радостные, мучительные и сладостные желания одно за другим охватывают меня. А в полночь, выступив из расселин пещеры, мне являются призраки ушедших времен и духи забытых наций, и мы жадно вглядываемся друг в друга. Я вопрошаю их, и они мне ответствуют с улыбкой. Когда же я порываюсь их удержать, они исчезают, как истаивает дым.
Я чужой в этом мире.
Я чужой, и нет на свете ни единого человека, кто знал хотя бы слово на языке моей души.
Я шагаю по пустынной степи и вижу ручьи, взбегающие, обгоняя друг друга, из глубины долины к горной вершине, вижу голые деревья – миг, и они одеваются зеленью, расцветают, плодоносят и сбрасывают листву, ветви их падают наземь и обращаются в пятнистых извивающихся змей. Вижу птиц, что взмывают в небо и стремглав летят вниз, поют и жалобно стенают, и вдруг, замерев, расправляют крылья и превращаются в нагих дев с распущенными волосами и стройными шеями. Из-под насурьмленных страстью век они призывно смотрят на меня, их алые, как роза, источающие медовый аромат уста улыбаются, они протягивают белые нежные руки, благоухающие миррой и ладаном; потом очертания их становятся зыбкими и они исчезают, как туман, но еще долго слышны отзвуки их насмешек надо мной.
Я чужой в этом мире.
Я поэт, я воспеваю стихами то, что жизнь пишет прозой, и пишу прозой то, что она слагает стихами. Потому-то я чужой и буду чужим до той поры, пока судьба не взыщет меня и не перенесет на родину.
… Тогда просила аль-Митра:
– Скажи нам о Любви.
Он поднял голову, посмотрел на народ, и воцарилось молчание. Тогда он сказал громким голосом:
– Если любовь путеводит вас, следуйте за ней, хотя дороги ее трудны и тернисты.
Если она осенит вас своими крылами, не противьтесь, даже если вас ранит меч, скрытый в ее оперении.
И если любовь говорит вам, верьте ей, даже если ее голос рушит ваши мечты, подобно тому как северный ветер опустошает сад. Ибо любовь венчает вас, но она вас и распинает.
Она растит вас, но она же и подрезает.
Она подымается к вашей вершине и обнимает ваши нежные ветви, трепещущие в солнечных лучах.
И она же спускается к вашим корням, вросшим в землю, и сотрясает их.
Как снопы пшеницы, она собирает вас вокруг себя.
Она обмолачивает вас, чтобы обнажить.
Она просевает вас, чтобы освободить от шелухи.
Она размалывает вас до белизны.
Она месит вас, пока вы не станете мягкими.
А потом вверяет вас своему святому огню, чтобы вы стали святым хлебом для святого Божиего причастия.
Все это творит над вами любовь, дабы вы познали тайны своего сердца и через это познание стали частью сердца Жизни.
Но если, убоявшись, вы будете искать в любви лишь покой и усладу, то лучше вам прикрыть свою наготу и, покинув гумно любви, уйти в мир, не знающий времен года, где вы будете смеяться, но не от души, и плакать, но не всласть.
Любовь дает лишь себя и берет лишь от себя.
Любовь ничем не владеет и не хочет, чтобы кто-нибудь владел ею, ибо любовь довольствуется любовью.
Если ты любишь, не говори: «Бог – в моем сердце», скажи лучше: «Я – в сердце Божием».
И не думай, что ты можешь править путями любви, ибо если любовь сочтет тебя достойным, она будет направлять твой путь.
Единственное желание любви – обрести саму себя.
Но если ты любишь и не можешь отказаться от желаний, пусть твоими желаниями будут:
Таять и походить на бегущий ручей, что напевает ночи свою песню.
Познавать боль от бесконечной нежности. Ранить себя собственным постижением любви.
Истекать кровью охотно и радостно.
Подниматься на заре с окрыленным сердцем и возносить благодарность за еще один день любви.
Отдыхать в полдень и предаваться размышлениям о любовном экстазе.
Возвращаться вечером домой с благодарностью.
И засыпать с молитвой за возлюбленного в сердце своем и с песней хвалы на устах.
Ибо лишь рука Жизни может принять ваши сердца.
Стойте вместе, но не слишком близко друг к другу,
Ибо колонны храма стоят порознь, и дуб и кипарис не растут один в тени другого.
Потом вновь заговорила аль-Митра.
– Что скажешь ты о Браке, учитель? – спросила она.
И он ответил:
– Вы родились вместе и вместе пребудете вечно. Вы будете вместе, когда белые крылья смерти развеют ваши дни.
Вы будете вместе даже в безмолвной памяти Божией.
Но пусть близость ваша не будет чрезмерной. И пусть ветры небесные пляшут меж вами.
Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи:
Пусть лучше она будет волнующимся морем между берегами ваших душ.
Наполняйте чаши друг другу, но не пейте из одной чаши.
Давайте друг другу вкусить своего хлеба, но не ешьте от одного куска.
Пойте, пляшите вместе и радуйтесь, но пусть каждый из вас будет одинок, как одиноки струны лютни, хотя от них исходит одна музыка.
Отдавайте ваши сердца, но не во владение друг другу.
… И просила женщина, державшая ребенка на руках:
– Скажи нам о Детях. И он сказал:
– Ваши дети – не дети вам.
Они сыны и дочери тоски Жизни по самой себе.
Они приходят благодаря вам, но не от вас, и, хотя они с вами, они не принадлежат вам.
Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли,
Ибо у них есть свои мысли.
Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам,
Ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где вы не можете побывать даже в мечтах.
Вы можете стремиться походить на них, но не старайтесь сделать их похожими на себя.
Ибо жизнь не идет вспять и не задерживается на вчерашнем дне.
Вы – луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед.
Стрелок видит цель на пути бесконечности и сгибает вас своей силой, чтобы его стрелы летели быстро и далеко.
Пусть ваш изгиб в руке Стрелка несет радость,
Ибо как любит стрелок летящую стрелу, так любит он и лук, остающийся на месте.
… Тогда просил богатый человек:
– Скажи нам о Даянии. И он ответил:
– Вы даете лишь малую толику, когда даете от своего достояния.
Вы истинно даете, лишь когда даете от самих себя.
Ибо что есть ваше достояние, как не вещи, которые вы храните и стережете из страха, что они могут понадобиться вам завтра?
А завтра? Что принесет завтра самой сметливой собаке, зарывающей кость в песок пустыни, идучи вслед за паломниками в святой город?
Что есть страх перед нуждой, как не сама нужда?
Разве боязнь жажды, когда колодец полон, не есть неутолимая жажда?
Есть такие, которые дают мало от многого, чем владеют. Они дают с тем, чтобы прославиться, и это тайное желание делает их дары отвратительными.
И есть такие, которые дают все то малое, что есть у них. Они верят в жизнь и в щедрость жизни, и их казна не скудеет.
Есть такие, которые дают с радостью, и она – награда им.
Есть такие, которые дают с болью, и она – их крещение.
И есть такие, которые дают и не знают при этом боли, они не ищут радости и не дают в надежде, что им зачтется.
Они дают так же, как мирт в долине струит свое благоухание в пространство.
Руками подобных им говорит Всевышний, и их глазами Он улыбается земле.
Хорошо давать, когда просят, но лучше давать без просьбы, предугадывая.
Для щедрого искать того, кто получит, – радость большая, чем само даяние.
Есть ли что-нибудь, что стоило бы утаивать?
Все, что есть у вас, будет когда-нибудь отдано.
Потому давайте сейчас, чтобы время даяния было вашим, а не временем ваших наследников.
Часто вы говорите: «Я бы дал, но только достойному».
Деревья в вашем саду и стада на ваших пастбищах не говорят так.
Они дают, чтобы жить, ибо утаить – значит погибнуть.
Истинно, тот, кто достоин получить свои дни и ночи, заслуживает от вас всего остального.
И тот, кто удостоился испить из океана жизни, достоин наполнить свою чашу из вашего ручья.
Есть ли пустыня больше той, что заключена в вашей смелости, уверенности, даже снисходительности, с коей вы принимаете?
Кто вы есть, чтобы люди раскрывались перед вами и снимали покровы со своей гордости, дабы вы увидели их достоинство в наготе и их гордость свободной от смущения?
Посмотрите сначала, достойны ли вы сами давать и быть орудием даяния.
Ибо воистину только жизнь дает самой жизни, а вы, считающие себя дающими, лишь свидетели.
Вы, принимающие даяния – а вы все принимаете, – не возлагайте на себя бремя благодарности, дабы не надеть ярмо на себя и на дающего.
Лучше подымайтесь вместе с дающим на его дарах, как на крыльях;
Ибо сверх меры печься о своем долге – значит усомниться в великодушии того, для кого мать – щедрая земля, а отец – Бог.
… Потом просил пахарь: – Скажи нам о Труде.
И сказал он в ответ:
– Вы трудитесь, чтобы не отрываться от земли и души ее.
Ибо быть бездельником – значит стать чужим для времен года и выйти из шествия жизни, движущегося к бесконечности в величии и гордом смирении.
Когда вы трудитесь, вы – флейта, в сердце которой шепот минут превращается в музыку.
Кто из вас хотел бы стать тростинкой, немой и безмолвной, когда все вокруг поет в согласии?
Всегда говорили вам, что труд – проклятье и работа – тягость.
А я говорю вам: когда вы трудитесь, вы исполняете часть самой ранней мечты земли, уготованную вам в те времена, когда эта мечта родилась.
И, работая, вы истинно любите жизнь.
А возлюбить жизнь через работу – значит приблизиться к глубочайшей тайне жизни.
Но если вы в своем страдании называете рожденье горем и заботу о плоти – проклятьем, начертанным на вашем челе, то я отвечу: ничто, кроме пота на вашем челе, не сотрет начертанного.
Говорили вам также, что жизнь есть тьма, и вы в усталости своей вторите тому, что было сказано уставшими.
А я говорю:
Жизнь на самом деле есть тьма, когда нет стремления,
Всякое стремление слепо, когда нет знания,
Всякое знание тщетно, когда нет труда,
Всякий труд бесплоден, когда нет любви.
И когда вы трудитесь с любовью, вы связываете себя с самими собой, с другими и с Богом.
А что значит трудиться с любовью?
Это – ткать одежды из нитей своего сердца так, словно те одежды наденет твой возлюбленный.
Это – строить дом с усердием так, словно в том доме поселится твой возлюбленный.
Это – сеять семена с нежностью и собирать урожай с радостью так, словно те плоды будет вкушать твой возлюбленный.
Это – наполнять все, что ты делаешь, дыханием своего духа.
И знать, что все благословенные усопшие стоят подле и взирают на тебя.
Часто я слышал, как вы говорили, будто во сне: «Тот, кто ваяет из мрамора и обретает в камне образ своей души, благороднее того, кто пашет землю.
И тот, кто ловит радугу, чтобы перенести ее на холст в облике человека, – выше того, кто плетет сандалии».
Но я говорю, не во сне, а в ясном бодрствовании полудня, что ветер беседует с могучим дубом так же нежно, как и с тончайшими стебельками травы.
И лишь тот велик, кто превращает голос ветра в песню, становящуюся нежнее от любви.
Труд – это любовь, ставшая зримой.
Если вы не можете трудиться с любовью, а трудитесь лишь с отвращением, то лучше вам оставить ваш труд, сесть у врат храма и просить милостыню у тех, кто трудится с радостью.
Если вы печете хлеб равнодушно, то ваш хлеб горек, и он лишь наполовину утоляет голод человека.
Если вы точите из гроздей сок с недобрым чувством, то оно отравляет вино.
Если даже вы поете, как ангелы, но не любите петь, то вы не даете людским ушам услышать голоса дня и голоса ночи.
… И просил ткач: – Скажи нам об Одежде.
И он ответил:
– Ваша одежда прячет большую долю вашей красоты, но не скрывает уродства.
Вы ищете в одеяниях свободу уединения, но обретаете в них узду и оковы.
Если бы вы могли подставить солнцу и ветру свою кожу, а не одежды!
Ибо дыхание жизни – в солнечном свете, и рука жизни – ветер.
Иные из вас говорят: «Это северный ветер соткал одежды, что мы носим».
А я говорю: «Да, это был северный ветер».
Но стыд был ему ткацким станом, и вялость мускулов – нитью.
И, закончив свой труд, он смеялся в лесу.
Не забывайте, что стыдливость – щит от глаз порочности.
А когда порочность исчезнет, чем будет стыдливость, как не оковами и сором разума?
Не забывайте, что земле приятно прикосновение ваших босых ног и ветры жаждут играть вашими волосами.
… Потом спросил законник:
– Что скажешь ты о наших Законах, учитель?
И он ответил: – Вы охотно устанавливаете законы,
Но куда охотнее попираете их.
Как дети, играющие на берегу океана, которые любят строить башни из песка, а потом, смеясь, разрушают их.
Но пока вы строите свои башни из песка, океан вновь приносит песок на берег,
И когда вы разрушаете их, океан смеется вместе с вами.
Истинно, океан всегда смеется вместе с невинными.
Но что сказать о тех, для кого жизнь – не океан, и законы, созданные человеком, – не башни из песка,
Для кого жизнь – скала, а закон – резец, коим они обращают ее в свое подобие?
Что сказать о хромом, ненавидящем плясунов?
Что сказать о воле, который любит свое ярмо и мнит лесного лося и оленя бездомными бродягами?
Что сказать о старой змее, которая не может сменить кожу и называет всех остальных голыми и бесстыжими?
И о том, кто рано приходит на свадебный пир и, пресытившись, уходит, говоря, что все пиры отвратительны и все пирующие преступают закон?
Что сказать мне о них, кроме того, что они тоже стоят под лучами солнца, но спиною к нему?
Они видят лишь свои тени, и эти тени – законы для них.
Что для них солнце, как не плавильщик теней?
И что значит признавать законы, как не склоняться и чертить свои тени на земле?
Но вы, идущие лицом к солнцу, какие образы, начертанные на земле, могут удержать вас?
Вы, странствующие с ветром, какой флюгер укажет вам путь?
Какой человеческий закон свяжет вас, если вы сбросите свое ярмо, но не перед дверью тюрьмы человека?
Каких законов вы убоитесь, если будете плясать, не наталкиваясь на железные цепи человека?
И кто приведет вас на суд, если вы скинете с себя одежды, но не оставите их на пути человека?
Народ Орфалеса, ты можешь заглушить барабан и ослабить струны лиры, но кто возбранит жаворонку петь?
… И просил оратор: – Скажи нам о Свободе.
И он ответил:
– У городских ворот и у ваших очагов я видел, как вы падаете ниц и поклоняетесь своей свободе, – так рабы унижаются перед тираном и поют ему хвалу, тогда как он обрекает их смерти.
Да, в храмовой роще и в тени крепости я видел, как самые свободные из вас носят свою свободу, как ярмо и наручники.
И сердце мое обливалось кровью, ибо вы можете стать свободными лишь тогда, когда даже само желание искать свободу станет для вас уздой и вы перестанете говорить о свободе как об искомом и достигнутом.
Истинно свободными вы станете не тогда, когда лишены забот будут ваши дни и ваши ночи будут избавлены от нужды и горя,
А когда ваша жизнь будет повита ими, но вы подымитесь над ними нагие, без оков.
И как вам подняться над днями и ночами, не разорвав цепей, в которые вы заковали свой полдень на заре своего постижения?
Воистину, то, что вы называете свободой, – самая прочная из этих цепей, хотя звенья ее блестят на солнце и ослепляют вас.
Что, как не частицы самих себя, хотелось бы вам сбросить, чтобы обрести свободу?
Пророк
Если это несправедливый закон, который вы хотели бы отменить, то закон этот был начертан вашей же рукой на лбу вашем.
Вам не стереть его, даже если вы бросите в огонь книги законов; вам не смыть его со лбов ваших судей, даже если вы на них выльете целое море.
А если это деспот, которого вы хотели бы свергнуть с престола, посмотрите прежде, разрушен ли его престол, воздвигнутый в вашей душе.
Ибо как может тиран властвовать над свободными и гордыми, если нет в их свободе тирании и нет в их гордости стыда?
Если это забота, от которой вы хотели бы избавиться, то эта забота скорее была избрана вами, чем навязана вам.
И если это страх, который вы хотели бы изгнать, то источник этого страха – в вашем сердце, а не в руках устрашающего.
Истинно, все в вашем естестве движется в неизменном полуобъятии, желанное и ужасающее, отталкивающее и заветное, то, что вы ищете, и то, от чего бежали бы.
Все это движется в вас, как свет и тень, слитые в пары.
Когда тень бледнеет и исчезает, угасающий свет становится тенью другого света.
Так и ваша свобода, теряя оковы, сама становится оковами большей свободы.
… Потом просила женщина: – Скажи нам о Боли.
И он сказал:
– Ваша боль – это раскалывание раковины, в которую заключен дар понимания.
Как косточка плода должна расколоться, чтобы ее сердцевина предстала солнцу, так и вы должны познать боль.
Если б ваше сердце не уставало изумляться каждодневным чудесам жизни, то ваша боль казалась бы вам не менее изумительной, чем радость;
И вы приняли бы времена года своего сердца, как всегда принимали времена года, проходящие над вашими полями.
И вы безмятежно смотрели бы сквозь зимы своей печали.
Многое из вашей боли избрано вами самими.
Это горькое зелье, которым лекарь в вас исцеляет вашу больную сущность.
Потому доверьтесь лекарю и пейте его лекарства в молчании и спокойствии: ибо его руку, пусть тяжелую и жесткую, направляет заботливая рука Незримого,
И хотя обжигает вам губы чаша, подносимая им, она сделана из глины, которую Гончар смочил своими святыми слезами.
… И просил юноша:
– Скажи нам о Дружбе. И он сказал в ответ:
– Твой друг – это твои осуществившиеся стремления.
Он – поле твое, которое ты засеваешь с любовью и с которого собираешь урожай со словами благодарности.
Он твой стол и очаг.
Ибо ты приходишь к нему алчущий и у него ищешь мира.
Когда твой друг открывает тебе душу, не бойся сказать про себя «нет» и не утаивай «да».
И когда он молчит, сердце твое да не перестает слушать его сердце;
Ибо в дружбе все мысли, все желания, все надежды рождаются и разделяются без слов, в безмолвной радости.
Когда ты разлучаешься с другом, не горюй;
Ибо то, что ты более всего любишь в нем, становится яснее в его отсутствие, ведь взбирающийся на гору яснее видит ее с равнины.
И да не будет иной цели в дружбе, кроме проникновения в глубины духа.
Ибо любовь, ищущая что-либо, помимо раскрытия своей собственной тайны, это не любовь, а расставленные сети, в которые уловляется лишь бесполезное.
И пусть лучшее в тебе будет для твоего друга.
Если ему суждено узнать отлив твоего моря, пусть он узнает и его прилив.
Зачем тебе друг, если ты ищешь его лишь для того, чтобы убить время?
Всегда ищи его, чтобы прожить время.
Ибо он призван исполнить твои желания, но не наполнить твою пустоту.
И пусть смех и взаимное удовольствие сопутствуют сладости дружбы.
Ибо в росе малостей сердце встречает свое утро и освежается.
… И спросил астроном:
– Учитель, что скажешь ты о Времени? И он ответил:
– Вы хотите отмерять время безмерное и неизмеримое,
Вы хотите жить согласно часам и временам года и даже дух свой подчинить им.
Из времени вы хотите сделать ручей, чтобы сесть на берегу и следить за его течением.
Но вневременное в вас осознает вневременность жизни,
И знает, что вчерашний день – лишь память сегодняшнего, а завтрашний – его мечта.
И то, что поет и мыслит в вас, все еще пребывает в том первом мгновении, рассыпанном звездами в пространстве.
Кто из вас не чувствует, что сила его любви беспредельна?
Но кто при этом не чувствует, что сама любовь, хотя и беспредельна, заключена в средоточие его естества, а не тянется вереницей любовных мыслей и деяний?
И разве время не подобно любви – неделимой и неизмеримой?
Но если в своих мыслях вы должны отмерять время по временам года, пусть каждое из них объемлет все другие.
И да обнимет сегодняшний день прошедшее – памятью и будущее – страстным влечением!
… Потом просила жрица:
– Скажи нам о Молитве. И сказал он в ответ:
– Вы молитесь, пребывая в горе и нужде; о, если б вы молились также в полноте своей радости и во дни изобилия!
Ибо что есть молитва, как не проникновение ваше в живой эфир?
И если вы обретаете утешение в излиянии своего мрака в пространство, то вы обретете радость в излучении зари своего сердца.
И если душа ваша будет подвигать вас на молитву, когда вы плачете, она будет подвигать вас вновь и вновь, пусть даже когда вы и плачете, покуда вы не станете смеяться.
Творя молитву, вы подымаетесь, чтобы встретить в воздухе тех, кто молится в этот час и с кем вы можете повстречаться лишь во время молитвы.
Потому входите в тот незримый храм лишь ради экстаза и сладостного общения.
Ибо если вы войдете в храм лишь для того, чтобы просить, то не получите.
Если вы войдете в него и повергнетесь ниц, вас не подымут.
И даже если вы войдете в него просить добра для других, вы не будете услышаны.
Довольно того, что вы входите в храм незримый.
Я не могу научить вас творить молитву из слов.
Бог слышит ваши слова, лишь когда он сам изрекает их вашими устами.
И не могу я научить вас молитве морей, лесов и гор.
Но вы, рожденные горами, лесами и морями, найдете их молитву в своем сердце.
Стоит вам вслушаться в ночную тишину, и вы услышите, как они говорят в безмолвии:
«Господь наш, наша окрыленная сущность,
Это твоя воля в нас волит,
Это твое желание в нас желает.
Это твое побуждение в нас превращает наши ночи, принадлежащие тебе, в дни, которые тоже твои.
Мы не можем просить тебя ни о чем, ибо тебе ведомы наши нужды прежде, чем они родятся в нас:
Ты – наша нужда; и давая нам больше от себя, ты даешь нам все».
… Тогда вышел вперед отшельник, который бывал в городе раз в году, и просил:
– Скажи нам о Наслаждении. И ответил он:
– Наслаждение – это песнь свободы, Но не свобода.
Это цвет ваших желаний,
Но не их плод.
Это глубина, взывающая к высоте,
Но не глубь и не высь.
Это пленница в клетке, расправляющая крылья,
Но не ограниченное пространство.
Да, воистину, наслаждение – это песнь свободы.
Я бы с радостью услышал, как вы поете ее от всего сердца, но я бы не хотел, чтобы вы утратили свое сердце в этом пении.
Есть среди вас юноши, ищущие одного – наслаждения, а их судят и укоряют.
Я не стал бы ни судить их, ни укорять. Пусть они ищут.
Ибо они найдут не одно лишь наслаждение;
Семь у него сестер, и даже самая меньшая из них прекраснее наслаждения.
Разве не слыхали вы о человеке, что искал в земле коренья, а нашел сокровище?
И есть среди вас старцы, вспоминающие о наслаждениях с раскаянием, как о грехах, совершенных в опьянении.
Но раскаяние – это лишь затмение разума, но не наказание для него.
Им стоило бы вспоминать о наслаждениях с благодарностью, как о летнем урожае.
Но если их утешает раскаяние, пусть они утешатся.
И есть среди вас те, что не столь молоды, чтобы искать, и не столь стары, чтобы вспоминать.
В своем страхе перед поиском и воспоминанием они сторонятся всех наслаждений, дабы не пренебречь духом и не оскорбить его.
Но даже их воздержание приносит им наслаждение.
Так и они находят сокровища, хотя дрожащими руками ищут в земле коренья.
Но скажите мне, кто может оскорбить дух?
Разве оскорбит соловей тишину ночи или светляк – звёзды?
Разве ваше пламя и ваш дым отяготят ветер? Или вы думаете, что дух – это тихая заводь, которую можно всколыхнуть посохом?
Часто, отказывая себе в наслаждении, вы лишь прячете желание в тайники своего естества.
Кто знает, быть может, то, что упущено сегодня, ждет завтрашнего дня?
Даже ваше тело знает, что ему завещано, знает, в чем оно нуждается по праву, и его не обманешь.
А тело ваше – арфа вашей души,
И вы вольны извлечь из нее нежную музыку или нестройные звуки.
И сейчас вы вопрошаете в своем сердце: «Как различить нам, что есть благо в наслаждении и что не есть благо?»
Пойдите в свои сады и поля и вы узнаете, что для пчелы собирать нектар с цветка – наслаждение,
Но и для цветка наслаждение давать нектар пчеле.
Ибо для пчелы цветок – источник жизни,
А для цветка пчела – вестник любви.
И для обоих – пчелы и цветка ~ приносить и получать наслаждение есть и потребность, и экстаз.
Народ Орфалеса, уподобься в своих наслаждениях цветам и пчелам.
… И просил поэт:
– Скажи нам о Красоте. И он ответил:
– Где вы будете искать красоту и как вы ее найдете, если не она сама станет для вас и путем, и вожатым?
И как вам говорить о ней, если не она будет ткачом вашей речи?
«Красота ласкова и нежна, – говорят огорченные и обиженные. – Как молодая мать, чуть смущаясь своей славы, ступает она среди нас».
«Нет, красота грозна и могущественна, – говорят пылкие. – Как буря, сотрясает она землю и небо».
Говорят усталые и утомленные: «Красота подобна нежному шепоту. Она говорит в нашем духе. Ее голос отступает перед нашим молчанием как слабый свет, что дрожит в страхе перед тенью».
Но беспокойные говорят: «Мы слышали, как она кричала в горах. И вместе с ее криками раздавался топот копыт, хлопанье крыльев и львиный рык».
Ночью говорят городские стражники: «Красота взойдет с зарею на востоке».
В полдень говорят труженики и путники: «Мы видели, как она склонилась над землей из окон заката».
Зимой говорят занесенные снегом: «Она придет с весной, шагая по холмам».
А в летний зной говорят жнецы: «Мы видели, как она пляшет с осенними листьями, видели хлопья снега в ее волосах».
Все это сказали вы о красоте.
На деле же говорили вы не о ней, но о своих неутоленных потребностях.
А красота – не потребность, а экстаз.
Это не жаждущие уста и не пустая протянутая рука,
Но пламенное сердце и очарованная душа.
Это не образ, что вам хотелось бы видеть, и не песня, что вам хотелось бы слышать,
Но образ, который вы видите, даже если сомкнете глаза, и песня, которую вы слышите, даже если закроете уши.
Это не смола в складках морщинистой коры и не крыло, сросшееся с когтем,
Но вечноцветущий сад и сонм вечнолетящих ангелов.
Народ Орфалеса! Красота есть жизнь, снимающая покров со своего святого лика.
Но жизнь – это вы, и покров – это вы. Красота есть вечность, глядящаяся в зеркало. Но вечность – это вы, и зеркало – это вы.
… И просил старый жрец:
– Скажи нам о Религии. И он сказал:
– Разве говорил я сегодня о чем-то ином? Не есть ли религия все дела и помышления,
А также то, что не есть дело и помысел, но радость и изумление, вечно возникающее в душе, даже когда руки обтесывают камень или трудятся за ткацким станом?
Кто может отделить свою веру от своих поступков или свои убеждения от занятий?
Кто может простереть свое время перед собой, говоря:
«Это для Бога, а это для меня; это для моей души, а это – для тела»?
Все ваши часы – крылья, своими взмахами рассекающие пространство.
Лучше бы наг был тот, кто облачается в свою мораль, как в лучшие одежды.
Ветер и солнце не причинят вреда его коже.
И тот, кто в своем поведении следует этике, заточает свою певчую птицу в клетку.
Самая свободная песня не пройдет сквозь железные прутья и проволоку.
И тот, для кого благочестие – окно, которое отворяют и затворяют, еще не бывал в доме своей души, чьи окна — от зари до зари.
… Потом заговорила аль-Митра:
– Теперь скажи нам о Смерти. И он ответил:
– Вам хочется узнать тайну смерти. Но где вы найдете ее, как не в сердце жизни?
Сова, чьи глаза завязала ночь, не может снять покров с таинства света.
Если вы подлинно хотите узреть дух смерти, распахните свое сердце перед плотью жизни.
Ибо жизнь и смерть едины, как едины река и море.
В глубине ваших надежд и желаний лежит молчаливое знание запредельного;
И, как семена, спящие под снегом, ваше сердце видит сны о весне.
Верьте снам, ибо в них скрыты врата в вечность.
Ваш страх перед смертью – лишь трепет пастуха, стоящего перед царем, который вскоре возложит на него руку в знак милости.
Разве в трепете пастуха не таится радость от того, что он будет отмечен царем?
Но разве не трепет беспокоит его всего более?
Ибо что значит умереть, как не встать нагим на ветру и растаять на солнце?
И что значит перестать дышать, как не освободить дыхание от его беспокойных приливов и отливов, дабы оно могло подняться, расшириться и безвозбранно искать Бога?
Лишь тогда вы будете петь по-настоящему, когда изопьете из реки молчания,
И начнете восхождение, лишь когда достигнете вершины.
И лишь тогда вы исполните свой подлинный танец, когда земля потребует к себе вашу плоть.
… Как-то раз Красота и Уродство встретились на морском берегу и решили искупаться в море.
Они сняли с себя одежды и поплыли по волнам. Немного погодя Уродство вышло на берег, облачилось в одежды Красоты и пошло своей дорогой.
Потом Красота вышла из воды, но не нашла своего облачения. Она устыдилась своей наготы, а посему надела одежды Уродства и тоже пошла своей дорогой. С того самого дня мужчины и женщины по ошибке принимают одно за другое.
Впрочем, есть и такие, кто созерцал лик Красоты и узнает ее, в какие бы одеяния она ни обряжалась. Есть и такие, кто знает Уродство в лицо, и никакая одежда не скроет его от их глаз.
… Один человек сказал другому:
– Давным-давно, в час морского прилива, концом посоха я начертал на песке одну строку; до сих пор люди останавливаются прочесть ее и пекутся о том, чтобы она не исчезла.
– Я тоже написал строку на песке, – молвил другой, – но то была пора отлива, и потом ее смыли волны бескрайнего моря. Скажи-ка, а что ты написал?
И первый ответил:
– Моя надпись гласит: «Я есмь то, что я есмь». А ты что написал?
– А я – вот что, – сказал другой в ответ: – «Я – только капля этого безбрежного океана».
… Как-то раз бедный Поэт повстречал на перекрестке богатого Глупца, и они разговорились. Из разговора стало ясно одно: оба недовольны своей участью.
Шедший мимо Ангел Пути остановился возле них и коснулся рукою их плеч. И тут случилось чудо: собеседники обменялись своим достоянием.
Затем каждый пошел своей дорогой. Но вот что удивительно: Поэт увидел в своих руках один лишь сухой песок, сыплющийся сквозь пальцы, а Глупец закрыл глаза и ощутил в сердце лишь летучее облако.
– Я люблю тебя, – сказала женщина мужчине. И мужчина ответил:
– Значит, есть в моем сердце нечто, достойное твоей любви.
– А ты разве не любишь меня? – спросила она. Но мужчина лишь пристально посмотрел на нее и не проронил ни слова. Тогда она закричала:
– Я ненавижу тебя!
И мужчина проговорил в ответ:
– Стало быть, в сердце моем есть и то, что достойно твоей ненависти.
… В саду при доме умалишенных мне случилось встретить одного юношу; восторженное изумление сказывалось в каждой черте его бледного красивого лица.
Я подсел к нему на скамью и спросил: – Почему ты оказался здесь?
Он поднял на меня удивленные глаза и проговорил:
Так и быть, я отвечу тебе, хотя такие вопросы не принято задавать. Дело в том, что отцу моему вздумалось во что бы то ни стало сделать из меня свое подобие; ту же мысль лелеял и мой дядюшка. Мать задалась целью создать из меня точную копию своего знаменитого отца. Сестра же твердила беспрестанно о своем муже-моряке и внушала, что мне во всем следует брать с него пример. А брат мой, так тот носился с мыслью, что я должен уподобиться ему, стать таким же великолепным атлетом.
И учителя мои тоже как сговорились: доктор философии, и учитель музыки, и логик докучали мне не меньше – каждому хотелось, чтобы я непременно стал отражением в зеркале именно его лица.
Потому-то я пришел сюда. Тут, по-моему, куда больше здравомыслия. Во всяком случае, здесь я могу быть самим собой.
Вдруг он резко повернулся ко мне и спросил:
– Скажи, а что тебя привело сюда, может тоже поучения и добрые советы?
– Нет, я просто посетитель, – ответил я. И тогда он проговорил:
– А, так, значит, ты из тех, что живут в сумасшедшем доме по ту сторону стены!
… В один погожий июньский день трава сказала ильмовой тени:
– Что ты все раскачиваешься, снуешь взад-вперед, покоя от тебя нет!
– Это не я, вовсе даже не я, – залепетала тень. – Погляди-ка на небо. Это дерево раскачивается на ветру между солнцем и землей, то на восток качнется, то на запад.
Трава подняла глаза к небу. И тут она впервые углядела дерево. И промолвила про себя: «Подумать только, так, значит, есть трава куда выше меня».
И с этим трава умолкла.
… В долине Кадиша, по которой катит свои воды могучая река, встретились и разговорились два малых ручья.
– Какой дорогой ты шел, мой друг, – спросил один, – и труден ли был твой путь?
– Много пришлось мне претерпеть в пути, – отвечал второй. – Мельничное колесо сломалось, умер хлебопашец, который всегда отводил воды из моего русла, чтобы напоить поля. Я с трудом пролагал себе дорогу сквозь ил и тину, скопившиеся благодаря тем, кто только и знал, что сиднем сидеть и нежить свою праздность на солнце. А каков был твой путь, мой собрат?
– Совсем иной, – сказал в ответ первый. – Я бежал по холмам среди благоуханных цветов и стыдливых ив; мужчины и женщины черпали мою воду серебряными чашами, а малые дети резвились в воде у моих берегов; и где бы я ни проходил, всюду слышался смех и радостные песни. Как жаль, что тебе в пути не так посчастливилось!
В это время река возвысила голос и позвала их: – Идите же сюда, идите! Мы поспешим к морю. Идите ко мне, идите! Не нужно больше слов. Теперь мы будем вместе. Мы поспешим к морю. Идите же, идите! Со мною вы забудете свои странствия, и печальные, и радостные. Идите же, идите ко мне! Все наши дороги забудутся, едва мы достигнем сердца нашей матери – моря!
… Майским днем Радость и Печаль встретились у озера. Приветствовав друг друга, они присели возле озерной глади и повели беседу.
Радость говорила о земной красоте, о вседневном чуде жизни в лесу и среди гор и о песнях, что слышны на утренней заре и вечерней порою.
Потом заговорила Печаль и согласилась со всем, что сказала Радость, ибо ей была ведома волшебная сила каждого часа и наполняющая его красота. И Печаль была красноречива, когда говорила о Мае в полях и среди гор.
Долго беседовали между собой Радость и Печаль, и во всем, о чем бы у них ни заходила речь, они были согласны.
В то время по другой стороне озера шли два охотника. Один из них, взглянув на противоположный берег, спросил:
– Кто эти две женщины, вон там?
– Две, говоришь? – удивился второй. – Я вижу только одну!
– Но ведь их там две! – настаивал первый.
– А я, сколько ни смотрю, только одну вижу, и отражение в воде тоже одно.
– Да нет же, говорю я тебе – их там две, – не унимался первый охотник, – и в недвижной воде тоже видны два отражения.
– Только одно вижу.
– Но я так ясно вижу два отражения, – твердил свое первый.
И по сей день один охотник говорит, что у другого двоится в глазах, а тот уверяет: «Мой друг малость подслеповат».
* * *
Еще вчера я мыслил себя частицей, пульсирующей без всякого ритма в сфере жизни.
Теперь я знаю, что я есмь сфера, и жизнь во всех своих частицах ритмично пульсирует во мне.
* * *
Они говорят мне, очнувшись ото сна: «Ты и мир, в котором ты живешь, – всего лишь песчинка на неоглядном берегу неоглядного моря».
А я говорю им во сне: «Я – неоглядное море, и все миры – лишь песчинки на моем берегу».
Лишь однажды я не нашелся что ответить. Когда меня спросили, кто я.
* * *
Первой Божией мыслью был ангел. Первым Божиим словом был человек.
* * *
Я родился сызнова, когда моя душа и тело полюбили друг друга и сочетались браком.
* * *
Разве духи, населяющие эфир, не завидуют людской боли?
* * *
Достигнуть зари можно только тропою ночи.
* * *
Мой дом говорит мне: «Останься со мной, ибо здесь живет твое прошлое».
А путь говорит: «Следуй за мной, ибо я – твое будущее».
И я говорю дому и пути: «У меня нет прошлого, как нет и будущего. Останься я здесь – в недвижности моей будет движение. Если же уйду – в движении моем будет недвижность. Только любовь и смерть всё меняют».
* * *
Не удивительно ли, что жажда определенных удовольствий есть часть моей боли?
* * *
Семь раз я презирал свою душу:
Первый раз, когда увидел, что она покорялась, чтобы достичь высот.
Второй раз, когда заметил, что она хромает в присутствии увечных.
Третий раз, когда ей дано было выбирать между трудным и легким, и она выбрала легкое.
Четвертый, когда она свершила зло и в оправдание себе сказала, что другие поступают так же.
Пятый, когда она, стерпев по слабости своей, выдала терпение за силу.
Шестой, когда она с презрением отвернулась от уродливого лица, не ведая, что это одна из ее личин.
И седьмой раз, когда она пела хвалебную песнь и мнила это добродетелью.
* * *
Я не знаю абсолютной истины. Но я смиряюсь перед своим незнанием, и в том – моя честь и награда.
* * *
Между воображением человека и обретением желанного лежит пространство, которое человек может преодолеть лишь своим страстным стремлением.
* * *
Ты слеп, а я глух и нем, так давай же возьмемся за руки и постараемся понять друг друга.
* * *
Наш разум – морская губка; наше сердце – поток.
Не странно ли, что большинство из нас предпочитает скорее впитывать, нежели изливаться?
* * *
Подлинная суть другого не в том, что он открывает тебе, но в том, чего он тебе открыть не может.
Потому, когда хочешь понять его, вслушивайся лучше не в то, что он говорит, а в то, чего он не говорит.
* * *
Чувство юмора – это чувство соразмерности.
* * *
Мое одиночество родилось, когда люди расточали похвалы моим говорливым порокам и порицали мои молчаливые добродетели.
* * *
Знать истину следует всегда, изрекать – иногда.
* * *
Подлинное в нас – молчаливо, наносное – речисто.
* * *
Если бы ты действительно раскрыл глаза и посмотрел вокруг, то увидел бы свой образ во всех образах.
И если бы ты отверз свой слух и прислушался, то узнал бы собственный голос во всех голосах.
* * *
Если ты будешь петь о красоте, пусть даже в полном одиночестве посреди голой пустыни, тебя и тогда услышат.
* * *
Вдохновение всегда будет петь; вдохновение никогда не будет объяснять.
* * *
Мужчины, не прощающие женщинам их маленьких недостатков, никогда не насладятся их великими достоинствами.
* * *
Любовь, не обновляющаяся вседневно, превращается в привычку, а та, в свою очередь, – в рабство.
* * *
Любовь и сомнение никогда не уживутся друг с другом.
* * *
Когда ты стоишь спиною к солнцу, то видишь только свою тень.
* * *
О другом можно судить только сообразно тому, сколь хорошо ты знаешь самого себя.
Скажи-ка мне теперь, кто из нас виновен, а на ком нет вины?
* * *
Часто я ненавидел из чувства самозащиты, но будь я сильнее, ни за что не прибегнул бы к такому оружию.
* * *
Достигнув сердца жизни, ты поймешь, что ты не выше преступника и не ниже пророка.
* * *
Жизнь – это шествие. Для того, кто идет медленным шагом, оно слишком быстро, и потому он выходит из него.
А тот, чья поступь легка, считает его необычайно медленным и тоже из него выходит.
* * *
Истинно добр тот, кто един со всеми, кого мнят злыми.
Все мы узники, только у одних камера с окошком, а у других – без него.
* * *
Индивид выше установленных человеком законов, пока не преступил установленных человеком условностей.
После того он уже не выше и не ниже любого из нас.
* * *
Есть ли больший недостаток, чем подмечать чужие недостатки?
* * *
Как-то раз один человек сел за мой стол, уплел мой хлеб, выпил мое вино и ушел, смеясь надо мной.
В другой раз он опять пришел за хлебом и вином, и я прогнал его пинками. И надо мной посмеялись ангелы.
* * *
Ненависть – нечто мертвое. Кто из вас хотел бы стать склепом?
* * *
Подлинно свободный человек тот, кто терпеливо несет бремя рабской неволи.
* * *
Это разум в нас подвластен законам, установленным нами, но никак не дух в нас.
* * *
Между ученым и поэтом простирается зеленый луг; перейдет его ученый – станет мудрецом, перейдет его поэт – станет пророком.
* * *
Быть щедрым – значит давать больше, чем ты можешь; быть гордым – значит брать меньше, чем тебе нужно.
* * *
Великая красота пленяет меня, но красота еще более великая освобождает меня даже от нее самой.
* * *
Часто остроумие только маска. Если б тебе удалось сорвать ее, ты бы увидел под ней либо рассерженного гения, либо ловкого плута.
* * *
Вера – оазис в сердце, которого никогда не достигнуть каравану мышления.
* * *
Если б ты поднялся всего на локоть над народом, страной и собственным «Я», ты бы впрямь уподобился Богу.
* * *
Если б ты сел на облако, то не увидел бы ни пограничной линии между двумя странами, ни межевого столба между двумя хуторами.
Как жаль, что ты не можешь сесть на облако.
* * *
Я тоскую по вечности, ибо там встречу я мои ненаписанные стихи и ненарисованные картины.
* * *
Искусство – шаг из природы в Бесконечность.
* * *
Была ли любовь матери Иуды к своему сыну меньше любви Марии к Иисусу?
* * *
Ты, верно, слышал о Святой горе.
Это высочайшая гора в нашем мире.
Если ты поднимешься на ее вершину, у тебя будет лишь одно желание – спуститься и быть с теми, кто живет на дне долины.
Потому-то ее называют Святой горой.
* * *
Каждую мысль, которую я заковал во фразу, я обязан освободить своими делами.
«Впрочем, есть и такие, кто созерцал лик Красоты и узнает ее, в какие бы одеяния она ни обряжалась. Есть и такие, кто знает Уродство в лицо, и никакая одежда не скроет его от их глаз.» ©
— наверное Высоцкий тоже читал это… и песню посвятил… только он пел про ложь и правду… «Ложь это все! И на лжи одеянье мое!» ©
Вечные строки, воистину!..
Рада, что понравились Вам, значит, пост не зря был.)
конечно не зря ...
есть люди, которые просто засирают интернет-пространство, а ты его наполняешь полезной и правильной информацией — это здорово.
Спасибо Вам!..) *нижайший поклон*
Для меня безмерно-важно это понимать.